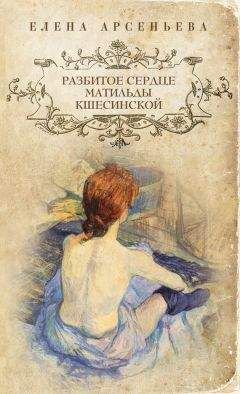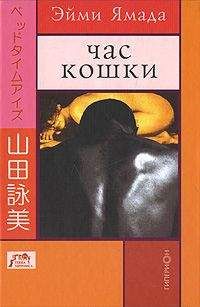Ознакомительная версия.
– Во дворец… Там умереть…
Когда сани въехали на высокий подъезд дворца и были раскрыты настежь двери, чтобы внести раненого, любимый пес Александра Николаевича, сопровождавший его и на войну, сеттер Милорд, как всегда, бросился навстречу хозяину с радостным визгом, но вдруг почувствовал беду и упал на ступени лестницы. Паралич охватил его задние лапы.
Государя внесли в рабочий кабинет и положили на узкую походную койку. Он был еще жив.
Екатерина ожидала его, одетая, в шляпе, как и договаривались. Кто-то вбежал, крикнул, что государю дурно. Она схватила лекарства, которыми Александр обычно пользовался, и спустилась в кабинет императора. В эту минуту и привезли умирающего.
Она даже не покачнулась, не вскрикнула. С невероятным самообладанием, которое было вызвано не чем иным, как смертельным потрясением, Екатерина принялась ухаживать за мужем. Помогала хирургу перевязывать его раздробленные ноги, останавливать кровь, льющуюся по изуродованному лицу. Растирала виски эфиром, давала дышать кислород.
Дети императора, наследник не могли решиться приблизиться к этому страшному, обезображенному человеку. Но место жены подле мужа. Она и находилась рядом с ним до последней минуты, до его последнего вздоха. Закрыла ему глаза в половине четвертого. В это время они как раз должны были гулять в Летнем саду…
Было три часа двадцать пять минут. Государь, промучившись около часа, тихо скончался.
Дворцовый комендант послал скорохода приказать приспустить императорский штандарт.
Через семь часов в Третьем отделении, в окружении врачей, пытавшихся спасти ему жизнь, умер, не приходя в сознание, Игнатий Гриневицкий.
В тот же день его тело предъявили для опознания арестованному Желябову. Сначала тот отказался отвечать, однако вскоре сообразил, что именно сейчас судьба дает ему шанс превратить свою неминуемую смерть в эффектное, историческое событие. Одно – жалкая участь какого-то арестованного народовольца, который будет медленно гнить в ссылке, и совсем другое – громкая слава цареубийцы!
Вернувшись в камеру, Желябов немедленно потребовал чернил и бумаги и написал письмо прокурору судебной палаты:
«Если новый государь, получив скипетр из рук революции, намерен держаться в отношении цареубийц старой системы; если Рысакова намерены казнить, было бы вопиющей несправедливостью сохранить жизнь мне, многократно покушавшемуся на жизнь Александра Второго и не принявшему физического участия в умерщвлении его лишь по глупой случайности. Я требую приобщения себя к делу 1 марта и, если нужно, сделаю уличающие меня разоблачения».
В гробу император лежал в мундире Преображенского полка. Но, вопреки обычаю, у него не было ни короны на голове, ни знаков отличия на груди. Однажды он сказал Екатерине:
– Когда я появлюсь перед Всевышним, не хочу иметь вида цирковой обезьяны. Не время тогда будет разыгрывать величественные комедии!
Поэтому все предметы, олицетворяющие для него земную суету, удалили. Но это чуть ли не единственная его воля, которая была выполнена…
В ночь после его смерти цесаревич Александр – нет, уже император Александр Третий! – понял, что у него не хватит решимости обнародовать подготовленный отцом манифест. Это означало неизбежное удаление Лорис-Меликова с его поста.
Впрочем, для покойного императора и его вдовы все это не имело никакого значения.
На панихиде Екатерина была едва жива. Ее поддерживали под руки сестра и Рылеев. Она опустилась на колени у гроба. Лицо умершего покрыли газом, который нельзя было поднимать. Однако Екатерина сорвала газ и принялась покрывать лицо мужа долгими поцелуями. Насилу ее увели.
Ночью она снова пришла к гробу. За это время она срезала свои чудесные волосы, которые были ее гордостью, сплела из них венок и вложила в руки императора. Это был последний дар человеку, который любил ее больше всего на свете.
Воистину – больше всего на свете и до последнего дыхания!
Когда слухи о том, что Желябов объявил себя организатором покушения, дошли до Перовской, та кивнула:
– Иначе нельзя было. Процесс против одного Рысакова вышел бы слишком бледным.
Напрасно Перовская беспокоилась. Очень скоро процесс стал более чем ярким, ибо и она сама, и Кибальчич, и Геся Гельфман, и многие другие тоже оказались на скамье подсудимых. В этом смысле расторопность Охранного отделения может вызвать лишь уважение. Объяснялась расторопность тем, что Желябов сделал-таки «уличающие разоблачения» – причем уличающие не только его самого.
Преступники на допросах вели себя вызывающе, смеялись следователям в лицо, обменивались шуточками и никакого не только раскаяния, но даже сожаления не выражали. Их наглость так потрясла коменданта Петропавловской крепости барона Майдела, что у него случился апоплексический удар, приведший к смерти.
Процесс состоялся. Смертной казни для шести обвиняемых – Желябова, Перовской, Рысакова, Михайлова, Кибальчича и Геси Гельфман – требовал прокурор Николай Муравьев, бывший сыном псковского губернатора Муравьева, то есть тем самым мальчиком, которого однажды спасли храбрые брат и сестры Перовские и которым он посулил уничтожить всех крамольников.
Всех не всех, но кое-кого уничтожить ему все же удалось.
Через месяц после похорон императора состоялась публичная – чего уже давно не было в России! – казнь цареубийц.
Накануне в дом предварительного заключения прибыл священник со святыми дарами, и осужденным предложили исповедаться и причаститься. Рысаков исповедался, плакал и приобщился. Михайлов исповедался, но от причастия отказался.
– Полагаю себя недостойным, – заявил он.
Кибальчич долго спорил со священником на философские темы, но исповедоваться и приобщаться отказался:
– Не верую, батюшка, ну, значит, и канителиться со мной не стоит.
Желябов и Перовская отказались видеть священника.
День казни выдался ясный, солнечный и морозный. Народ толпился на Литейной, Кирочной, по Владимирскому проспекту и на Загородном. Семеновский плац с раннего утра был заполнен толпой.
Вот из ворот дома предварительного заключения, одна за другой, окруженные конными жандармами, выехали черные, двухосные, высокие, на огромных колесах позорные колесницы. В первой сидели Желябов и Рысаков. Оба были в черных, грубого сукна арестантских халатах и черных шапках без козырьков.
Во второй колеснице сидели Кибальчич и Михайлов, а между ними Перовская. Они были смертельно бледны. У каждого преступника на груди висела доска с надписью: «Цареубийца». Грохотали барабаны. Возбужденно гомонила толпа. Ни от кого не было слышно ни слова сожаления, сочувствия, милосердия, пощады. Ненависть и злоба владели толпой:
Ознакомительная версия.