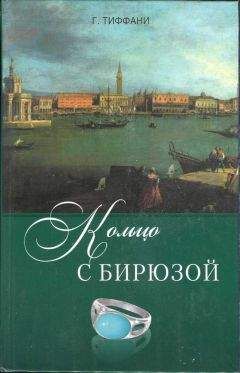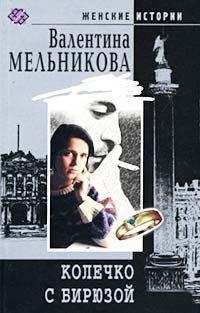– Иля, я ж сама его... – заплакала, уронила голову на широкую грудь боярина. – И знать не знала, что словами убить можно. Иля...что ж теперь?
Боярин не ответил, да и что говорить?
О том, что теперь, Ульяна узнала ровно другим днем, когда вошла в гридню Норова и увидала поломанные лавки, опрокинутые сундуки. Самого его нашла в дальнем углу подворья: валялся, хмельной, на земле, широко раскинув руки.
В ту страшную седмицу Ульяне пришлось не сладко: Норов метался по хоромам, пугал людей жутким молчанием и стылым взором. Ни одного слова не кинул, ни одного взгляда не подарил. Вечерами садился на коня и носился где-то, ввечеру возвращался, едва дыша от усталости.
Ульяна ходила за ним, силилась то накормить, то рубаху дать чистую, а тот лишь отворачивался и махал на нее рукой. Однова только и сказал:
– Насильно мил не будешь, – голос у Норова стылый, ледяной. – Горе ей со мной, а с Илларионом счастье. Так пусть живет отрадно, кто я, чтоб ей поперек вставать. Пусть будет там, где хочет, лишь бы ей в радость. Пусть не печалится больше, пусть улыбается, щебечет. Ульяна, видно, надо отпустить, не держать ее пташкой в клетке... – сказал и замолк на долгие дни.
Глава 30
– Ступай, говорю. – Норов услыхал голос Ильи в сенях – твердый, жесткий, едва не стальной. – Боишься, так я сам обскажу.
– Илья, погоди. – Ульяна говорила тихо и слезливо. – Сама я. Виновата же.
– Не ты одна. – А потом уж дверь в гридню распахнулась и на порог взошли оба.
Вадим и не головы не поднял: сидел у стола, глядел уж который час на свиток, какой прислал из Гольянова писарь Никеша.
– Вадим, – боярыня подошла ближе и стояла теперь, опустив голову, какого за ней не водилось, – не гони, послушай...
– Об Настасье? – Норов молчал уж давно, потому и голоса своего не узнал: не слова, шипенье змеиное. – Тогда ступай обратно. Слушать не стану.
– Вадимушка, родной, – Ульяна слезами залилась, – видеть не могу, как маешься.
– Не твоя забота, – Норов коротко глянул на тётку и на Илью, стоявшего за ее спиной.
– Моя, – Ульяна шагнула еще ближе. – И грех мой. Настя в княжье городище ушла от тебя укрыться. Погоди, все обскажу... – утерла слезы платочком и вздохнула поглубже. – Услыхала о тебе, что ходок ты. Не снесла обиды. Я сама ее и услала к Иллариону. Ты мне уж сколь раз говорил, коли не сладите, отправить ее к попу.
– Постой, Уля, – Илья и сам теперь шагнул к столу. – Вадим, говорить тебе не стали, сами не ведаем, откуда слухи такие. Боярышня твои речи слыхала в роще.
Норов сквозь муть, какая уж давно в голове у него бродила, услышал одно – ходок. Разумел, что глупость все и обман. Потому смолчал, опустил голову и принялся наново разглядывать писарев свиток.
– Вадимушка, – прошептала тётка, – чего ж молчишь? Скажи хоть слово. Так ли? Вторую седмицу молчуном ходишь, извелся. И мы с Ильей света белого не видим, за тебя боимся. Как бы чего не сотворил.
– Ульяна, постой, не об том ты, – Илья положил руку на плечо боярыни, слегка двинул ее в сторону. – Настя уезжала, слезами умывалась. Люб ты ей.
Норов смолчал, только кулаки сжал до жуткого хруста. В голову кровь бросилась, забилась в висках колоколом, а вслед за тем злоба взвилась, да такая, какой не помнил за собой! Вскочил Вадим, треснул по столу, проломил толстое дерево, будто скорлупку яичную, раскровянил кулак, да того и не заметил:
– Люб?! – голос его взвился опасно. – Вранье! Слышишь, Ульяна?! Все вранье! Ты ее пестовала сколь лет и не знала, что ни слова правды от нее не услыхать! Твоей заботой врать выучилась, поняла?! Все, чего ей надобно было, попасть к Иллариону! По ее и вышло! Чего она тебе в уши навтолкала, а?! Ходок?! Я?!
– Вадимушка, – боярыня покачнулась, – какое вранье? Моей заботой? – Ульяна глаза распахнула.
– А чьей?! – Норов вызверился. – Что ни слово ее, так твоя затрещина! Что ни дело – битье иль вывороченное ухо! Что ей, если не врать тебе, а?! Себя обороняла!
– Ты? Настю? Не смей! – боярыня вошла в разум, выпрямилась. – Светлее девочки моей нет!
– Да н-у-у-у, – Вадим засмеялся страшно, дико. – Думаешь, все об ней знаешь? Она ж уже сбегала к попу по весне. Уговорилась с воем, что свезет ее, выведет в ночи. Сам за косу ее поймал своими руками. Что?! Что смотришь?! Не ведала ты ничего об ней и не ведаешь! Всех обманула и меня до горки, – унялся чуть, голову опустил поник плечами. – Я ей поверил... Поверил так, что... А она всего-то и ждала что уйду из крепости...
– Вадимушка... – Ульяна опешила, сбилась с дыхания, – ты об чем? Куда бежала? Какой вой? Ты что мелешь? Заговариваешься? – в глазах тётки плескались слезы.
– Уйди, Ульяна, – Норов махнул рукой. – Хочешь верь, хочешь не верь. Я знаю и все на том. Если кто из вас наново примется о ней говорить, кидать слова про любовь и все вот это, за себя не отвечу. Головы полетят. Слушать ничего не стану.
Илья и Ульяна долго молчали, но малое время спустя, боярин заговорил:
– Вадим, гонишь нас?
– Никого не гоню, – Норов устало опустился на лавку, не заметив, как тугие капли крови стекают с кулака и падают на пол. – Ты, Илья, оборонил Порубежное. Сколь жизней сберег, не счесть. Должник я твой. И ты, Ульяна, сохранила дом, людишкам помогла, уж не однова слыхал ото всех. И тебе должен... – вздохнул тяжко. – Ты за нее не ответчица, да сам я ее отпустил. Говорил уж, пусть счастлива будет там, где хочет. Поперек не встану.
– Вадим, не то думаешь, не так, – Илья подошел к Норову, опустил руку на его плечо. – Не врала она, ошибся ты.
– Илья, ты слово мое услыхал. Уйди от греха, ударю.
– Как скажешь, – Илья взял за руку бледную Ульяну и потянул к дверям.
Норов и вслед не посмотрел, глаза прикрыл и прислонился головой к бревенчатой стене. Так и сидел бы, если б не дребезжащий голос Никеши:
– Здравы будьте все, – писарь в запыленных сапогах влез в гридню и тихонько прикрыл дверь. – И ты, Вадимка, и бес твой голосящий. – Две седмицы меня не было, а уж все вверх дном. Как чуял, тронулся поутру из Гольянова. Вадим...Вадим... очнись, бесноватый.
– Дед, хоть ты помолчи, – Норов обессилел и теперь просил зловредного, едва не умолял.
– Ладно, – писарь согласился на удивление скоро, подошел к Вадиму и кулак его оглядел. – Анька! Воды неси, тряпицу чистую! – и умолк.
Вскоре пришла девка, утерла кровищу с Вадимовой руки, туго перетянула израненный кулак и ушла, склонив голову боязливо. В гридне тихо стало, как в могиле. В открытое окно ветер рвался – жаркий летний – прохлады не приносил, одну лишь духоту и маятливость. Даже по близкому вечеру жара не отступила, мучила людей, раскаляла землю, делала небо белесым.
– Так и будешь сидеть? – Никеша, осмелев, двинулся к Норову. – Ну сиди, сиди, ирод. Всех разогнал и с чем остался? Я-то тебя не брошу, только пользы с меня, как с козла молока. Вот разве что расскажу, как в Гольянове дела. Надо, нет ли?
– Говори, – Норов измаялся слушать тишину.
– Бориска там шурует, холопов гоняет, воев в строгости держит. Много уж отстроили за две-то седмицы. Почитай половина домов пожгли.
Вадим глаз не открыл, вспомнил лютую сечу при Гольянове, в какой положил не меньше двух десятков от сотни. Утратил людей, не вернуть, но ворога стёр в пыль и все это для нее, для кудрявой. Припомнил Норов и то, как без страха, безо всяческого сомнения, шел в бой, держался за Настин перстенёк, какой забрал у нее, уезжая, и повесил на суровую нитицу. У сердца держал, лелеял любовь свою, как бесценный дар и утратил его в одночасье.
– Никеша, пойду я. Постыло все.
– Ступай, – и наново зловредный согласился, не стал перечить.
Норов и шагнул из гридни, пошел по сеням, сам не зная куда. Мимо Настиной ложни прошел быстро, взгляда не кинул. У клети, в какой говорил с ней в ночи, едва не пробежал, а на подворье выскочил чёртом. За воротами продышался и двинулся широким шагом вон из крепости.