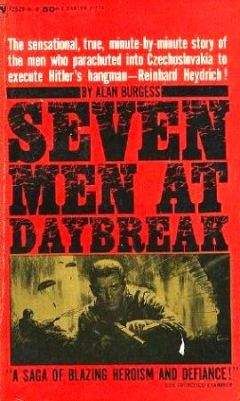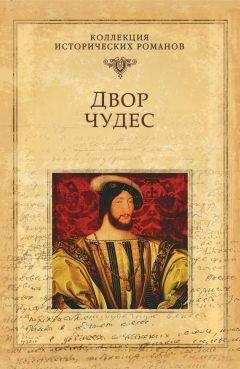Ознакомительная версия.
Молодые сняли квартирку на Ново-Исаакиевской и зажили в том нелепом ритме, в котором жили, вернее, существовали в ту пору все богемные петербуржцы. Вставали около трех пополудни, ложились на рассвете. Каждый вечер муж возил Лизу по своим утонченным знакомым. Бывали, к примеру, у Вячеслава Иванова — на знаменитой «Башне», куда нельзя приехать раньше двенадцати часов ночи.
Вячеслав Иванович Иванов был поэт, символист, эстет, историк, эрудит, полиглот. В его квартиру, знаменитую «Башню» (просторная, своеобразной планировки квартира Иванова находилась на последнем этаже, отсюда и название), приходили философы, поэты, художники, историки, артисты… По сути дела, с 1905 по 1913 год это был центр, средоточие всего художественного Петербурга, своеобразный университет, про-академия, как называли «Башню».
Лиза, если честно, чувствовала себя новичком, поистине варваром, встретив людей, владеющих ключами от сокровищницы современной культуры. Сам Иванов был, конечно, большой распутник и нигилист, но умел с одинаковым знанием и блеском говорить о литературе, науке, религии, поэзии, политике.
Лиза была человеком очень действенным, и мир неспешных интеллектуальных бесед и философствований на отвлеченные темы скоро стал не слишком-то ей интересен. В ее понимании это было какое-то пьянство без вина, пища, которая не насыщает. Но даже когда на «Башне» поднимались разговоры о революции и ее герое — народе, то и тогда Лиза не воспринимала их всерьез и размышляла: «Ведь никто, никто за нее не умрет! Прокричат всю ночь — до утренней яичницы — и совсем не поймут, что умирать за революцию — это значит чувствовать настоящую веревку на шее. И жалко революционеров, потому что они умирают, а мы можем только умно и возвышенно говорить об их смерти».
Весьма родным показался Лизе и «Цех поэтов», где она снова встретилась с Гумилевым и Городецким, ну и с Ахматовой, конечно. Здесь было по-школьному серьезно, чуть скучновато и манерно. Гумилев в своем творчестве, по мнению Лизы, рыскал вне русской равнины, в чужих экзотических странах, а Ахматова не выходила за порог душной, заставленной безделушками комнаты. Ни с ним, ни с ней Лизе было не по пути.
Вообще говоря, дружба двух красавиц редко бывает продолжительна. Тем более двух поэтесс! Хоть Анна не любила мужа, а все ж не могла ему простить частых увлечений, в том числе Лизой Кузьминой-Караваевой, которая раздражала Ахматову полным отсутствием пресловутой утонченности — как духовной, так, честно говоря, и телесной. Спустя много лет кто-то из литературоведов спросил у Анны Андреевны, почему, по ее мнению, Блок не ответил на признания Лизы? И получил беспощадный ответ: «Она была некрасива — Блок не мог ею увлечься».
А между тем он сам писал:
Когда вы стоите на моем пути,
Такая живая, такая красивая…
Впрочем, никогда ни разъединая женщина так и не дождалась от Анны Андреевны доброго слова. Кроме Ольги Судейкиной, конечно, однако тут были свои резоны и тонкости, о которых не время и не место сейчас говорить.
Как велось в то время в жизни Лизы, она невольно продолжала каждого мужчину равнять с Блоком. Понимала, что любит какого-то неживого, выдуманного человека, что необъективна, что надобно жить реальностью… и вдруг судьба, словно для того, чтобы утвердить ее в этой прекрасной, нереальной страсти, устроила ей сюрприз…
Когда немцы вторглись во Францию в мае — июне 1940 года, все и всё замерло в ожидании неведомой участи и возможной смерти. Мать Мария спокойно говорила тогда:
— Я не боюсь страданий и люблю смерть.
Она и впрямь была наделена высшим бесстрашием, которое только даруется человеку: полным отсутствием страха перед смертью.
О смерть, нет, не тебя я полюбила,
Но самое живое в мире — вечность,
И самое смертельное средь мира — жить…
— Если немцы возьмут Париж, я останусь со своими старухами, — говорила она еще до вторжения, разумея тех, кто нашел приют на рю Лурмель. — Куда мне их девать?
Когда войска были уже на подступах к Парижу, ее уговаривали уехать в провинцию.
— А зачем? Что мне здесь угрожает? Ну, в крайнем случае немцы посадят меня в концентрационный лагерь. Так ведь и в лагере люди живут.
Впрочем, если бы тогда была у нее возможность вернуться в Россию, она сделала бы это не задумываясь.
— Мне более лестно погибнуть в России, чем умереть с голоду в Париже!
Она отдавала себе отчет, что возвращение может стать новой трагедией в ее жизни, но готова была принять все.
В любые кандалы пусть закуют -
Лишь был бы лик Твой ясен и раскован.
И Соловки приму я, как приют,
В котором ангелы всегда поют.
Мне каждый край Тобою обетован…
И даже потом, даже действительно оказавшись в немецком концлагере, в Равенсбрюке, мать Мария продолжала мечтать о возвращении:
— Я поеду после войны в Россию — нужно работать там, как в первые века христианства: проповедовать имя Божье служением, всей своей жизнью, на родной земле слиться с родной церковью.
У нее в те годы постоянно были вещие предчувствия, основанные вовсе не только на природном оптимизме этой женщины (ей, как и всем прочим смертным, свойственно было предаваться греху уныния), а именно озарения свыше. Например, осенью 1940 года, в разгар немецких налетов на Англию, она записала предсказание: «Англия спасена. Германия проиграла войну».
Когда фашисты ворвались — поначалу победоносно! — в Россию, мать Мария сказала:
— Я не боюсь за Россию. Я знаю, что она победит. Наступит день, когда мы узнаем по . радио, что советская авиация уничтожила Берлин. Потом будет «русский период» истории. Все возможности открыты. России предстоит великое будущее. Но какой океан крови!
В декабре 1941 года, когда в победу России над Гитлером можно было только верить, мать Мария написала такие стихи:
Ночь. И звезд на небе нет.
Лает вдалеке собака.
Час грабителя и вора,
Сторож колотушкой будит.
— Сторож, скоро ли рассвет? -
Отвечает он из мрака:
— Ночь еще, но утро скоро,
Ночь еще, но утро будет.
Она все время повторяла:
— Не относитесь к войне как к чему-то естественному, не примите ужасы и грехи жизни за саму жизнь!
Для русских эмигрантов в оккупированной зоне с 22 июня 1941 года начались новые испытания. В одном только Париже было арестовано около тысячи эмигрантов, в том числе близкие друзья матери Марии: Федор Пьянов, Илья Фондаминский и другие. Их отправили в Компьенский лагерь, километрах в ста от Парижа.
В конце июня оккупационные, власти спохватились и выпустили русских — оставив в заключении евреев. Конечно, во Франции было известно о репрессиях, которые Гитлер обрушивал на эту нацию. Однако русская интеллигенция всегда презирала слово «жид», а теперь то несколько снисходительное отношение к евреям, которое исторически свойственно представителям вообще всех национальностей и которое некоторые оголтелые потомки Давида ничтоже сумняшеся называют антисемитизмом (не вредно бы им почаще вспоминать Вторую мировую войну и не только собственные страдания, но и те жертвы, которые принесены безвинными людьми ради них — принесены по зову сердца, а вовсе не по обязанности жертвовать собой ради какого-то там «избранного народа»!), сменилось горячим сочувствием к угнетенным. «Братья по Творцу» — это понятие несколько размылось в те годы. Между нормальными людьми в счет шла не принадлежность к той или иной национальности, а вечные ценности, категории общечеловеческие.
Ознакомительная версия.