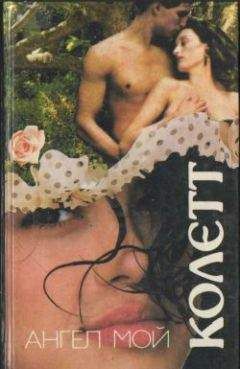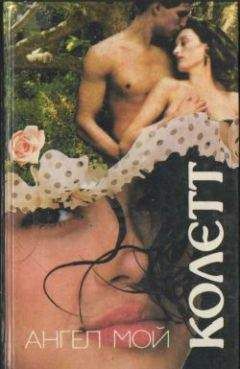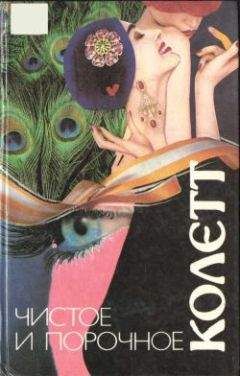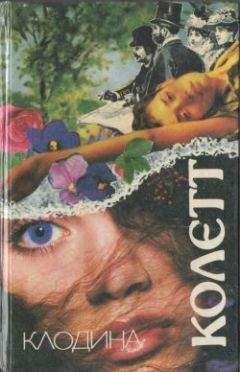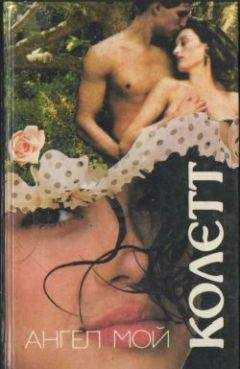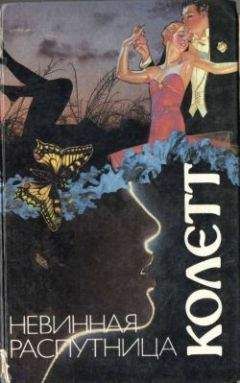На ней школьный фартук до колен и причёска, как у ребёнка из бедной семьи: две косицы, связанные за ушами. Какими со временем будут её руки, на которых видны следы кошачьих когтей и колючек, её ноги, обутые в ободранные ботинки из жёлтой телячьей кожи? В иные дни говорят, что Малышка будет красивой.
Сегодня же она уродлива и чувствует на своём лице временную маску уродства из пота и следов от пальцев, выпачканных в земле, а больше всего из мимических ролей, которые она поочерёдно на себя примеривала, становясь то Жанной, то Сандриной, то Алиной – швеёй-подёнщицей, то аптекаршей, то почтаршей. Они ведь долго играли в игру «кем-ты-будешь-когда-вырастешь».
– Когда я вырасту…
Подружкам, с лёгкостью передразнивающим других, не хватает воображения. Некое мудрое смирение, какой-то деревенский ужас перед приключениями и дальними странствиями заранее делают дочек часовщицы, кондитера, мясника и гладильщицы пленницами родительских лавок. Правда, Жанна заявила:
– А я буду кокоткой!
«Ну уж это ребячество…» – презрительно думает Киска.
Когда же приходит её черёд, она, за неимением желаний, пренебрежительно бросает:
– А я буду моряком!
Потому как иногда она мечтает быть мальчиком и носить голубые штанишки и берет. Море, которого Киска никогда не видела, корабль на гребне волны, золотой остров и сверкающие плоды – всё это появилось потом, чтобы служить фоном для голубой матроски и берета с помпоном.
– Я буду моряком, и в своих плаваниях…
Сидя в траве, она расслабилась и почти не думает. Плавания? Приключения?.. Для ребёнка, два раза в год – когда делаются зимние и весенние закупки – выезжающего за пределы кантона и воспринимающего это как целое событие, подобные слова лишены всяких оснований и силы. За ними стоят лишь страницы книг, цветные картинки. Утомлённая Малышка безотчётно твердит: «Когда я отправлюсь в кругосветное путешествие…», как если бы она говорила: «Когда я отправлюсь сбивать шестом каштаны…»
В доме, за стёклами гостиной, зажигается красный огонёк; Малышка вздрагивает. Всё, что секунду назад было зелёным, в свете этой неподвижной красной точки становится голубым. Девочка проводит рукой по траве и ощущает вечернюю влагу. Настало время зажигать свет. Слышится плеск текущей воды, уносящей с собой опавшую листву, бьётся об изгородь дверь сеновала, как зимой, когда дует сильный ветер. Сад, ставший вдруг враждебным, ощетинивается на отрезвевшую от игр девочку своими холодными лавровыми листьями, вздымает на неё сабли юкки и переплетённые гусеницы ветвей араукарии. Со стороны Мутье, где ветер шутя, не зная преград, пробегает по лесной зыби, доносится стон морской пучины. Сидя в траве, Малышка неотрывно смотрит на лампу, которую на миг что-то заслоняет: кто-то провёл перед лампой рукой со сверкающим напёрстком. Это та самая рука, чьего жеста достаточно, чтобы Малышка поднялась: побледневшая, угомонившаяся, вздрагивающая, как ребёнок, впервые переставший быть весёлым вампирчиком, бессознательно опустошающим материнское сердце, слегка подрагивающая от ощущения и осознания, что и эта рука, и этот огонёк, и эта склонённая над работой голова у лампы – центр и тайна, где зарождаются и откуда в виде кругов – чем дальше, тем менее ощутимы свет и первоначальный импульс – расходятся тепло гостиной с её флорой срезанных стеблей и фауной мирных домашних животных, гулкость сухого, хрустящего, как горячая булка, дома, уют сада, деревни… За их пределами всё – опасность и одиночество.
«Моряк» робкими шажками пробует твёрдую почву и бредёт в дом, отвернувшись от восходящей на небе жёлтой и огромной луны. Приключения? Странствия? Гордыня, порождающая эмигрантов?.. Не отводя глаз от сверкающего напёрстка и руки, двигающейся перед лампой, Киска вкушает от дивного удела: чувствовать, что ты – подобно дочкам часовщицы, прачки и булочника – дитя своей деревни, враждебной как варварам, так и колонистам, быть одной из тех, кто ограничивает свой мир концом ближнего поля, дверью в лавку, кружком света вокруг лампы, время от времени затеняемой родной рукой с серебряным напёрстком, тянущей нить.
Больше я так жить не могу, – говорит мне мама. – Этой ночью мне опять приснилось, что тебя похитили. Я три раза поднималась к тебе и не могла уснуть.
Я с состраданием смотрю на неё: она выглядит усталой, беспокойной. Я молчу, потому как не знаю, чем помочь.
– И это всё, что ты можешь сказать мне, маленькое чудовище?
– Чёрт возьми, мама… Ну что я могу сказать? Ты как будто злишься на меня за то, что это всего лишь сон.
Мама воздела руки к небу и кинулась к двери, при этом шнур её пенсне зацепился за торчащий из ящика ключ, цепочка лорнета – за щеколду двери, а косынка обвилась вокруг острой готической спинки стула в стиле Второй империи[5] и увлекла его за собой; мама сумела удержаться от проклятия и, бросив на меня негодующий взгляд, исчезла.
– И это в девять лет!.. Так отвечать мне, когда я толкую о серьёзных вещах!
После замужества моей сводной сестры мне досталась её комната на втором этаже с обоями в васильках по сероватому фону.
Покинув свою детскую – бывшую привратницкую над входом в дом, поднадзорную маминой спальни, облицованную плиткой, с толстыми балками, – я вот уже месяц спала в кровати, о которой не смела и мечтать: занавеси балдахина из белого гипюра на подкладке ослепительно синего цвета закреплялись сверху на отлитых из чугуна и посеребрённых розах. Эта полугардеробная-полутуалетная комната принадлежала мне, и в час, когда дети Бланвиленов или Трините проходили мимо нашего дома, жуя полдничный бутерброд с красной фасолью в винном соусе, я меланхолично или свысока – и то и другое было притворным – облокачивалась о подоконник и говорила что-нибудь типа:
– Пожалуй, пойду в свою комнату… Селин оставила ставни моей спальни открытыми…
Однако счастье моё было под угрозой: мама беспокойно ходила вокруг да около. С тех пор как сестра вышла замуж, мама недосчитывалась своего выводка. Кроме того, на первые Полосы газет попала история с похищением и заточением какой-то девушки. А тут ещё железнодорожник, получивший на ночь глядя отставку у нашей кухарки, засунул свою дубинку между створками двери и отказывался уходить… пока не подоспел мой отец. И наконец, цыгане, ослепительно улыбаясь и меча ненавидящие взгляды, предложили мне продать им свои волосы, а старый нелюдимый господин Деманж угостил меня конфетами из своей табакерки.
– Всё это пустяки, – утверждал мой отец.
– Ты как всегда. Лишь бы тебя не трогали, не мешали после обеда курить и играть в домино… Тебе даже безразлично, что Малышка теперь спит наверху и нас с ней разделяют целый этаж, столовая, коридор и гостиная. Я устала беспрестанно дрожать за моих дочерей. Довольно и того, что старшая ушла с этим господином…