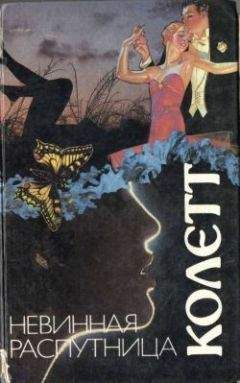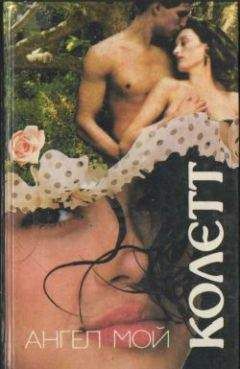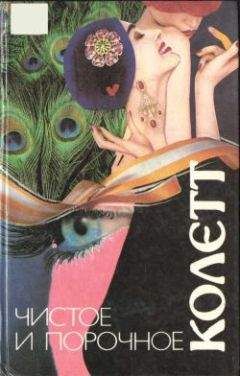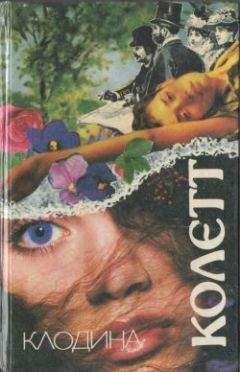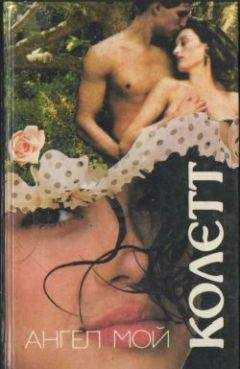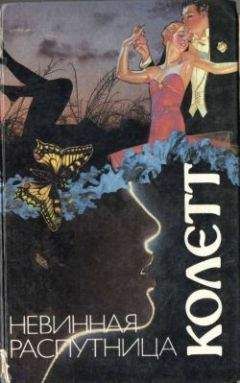– Мадам, вот уже неделя, как я каждый вечер прихожу в «Ампире», чтобы аплодировать вам. Извините меня за то, что мой визит, быть может… неуместен, но мне казалось, что восхищение вашим талантом… вашей пластичностью, отчасти оправдывает такое… некорректное вторжение и что…
Я ничего не отвечаю этому идиоту. Ещё вся мокрая, в полурасстёгнутом платье, я, тяжело дыша, смываю с рук красную краску и гляжу на него с таким бешенством, что его красивая фраза испускает дух, так и не дойдя до конца…
Дать ему пощёчину? Отпечатать на его щеках мою мокрую, недомытую пятерню? Или гневно крикнуть ему в лицо, так резко очерченное, костлявое, перерезанное линией чёрных усов, слова, которым я обучилась за кулисами и на улице?..
У этого захватчика угольно-чёрные печальные глаза… Уж не знаю, как он понял мой взгляд и моё молчание, только выражение его лица вдруг изменилось.
– Простите, мадам, я повёл себя, как болван и грубый человек, но, увы, слишком поздно это заметил. Выставите меня за дверь, я это заслужил. Но только позвольте прежде выразить вам своё искреннее уважение.
И он поклонился, как бы собираясь уйти, но… не ушёл. С уличной мужской наглостью выжидает он секунду-другую награду за то, что так повернул разговор и – Бог ты мой, не такая уж я непреклонная! – получает её:
– В таком случае, мсье, я скажу вам любезно то, что сказала бы не щадя вас: уходите!
Я с улыбкой, уже добродушно, указываю ему на дверь. Но он не улыбается. Он стоит, упрямо склонив голову, и кисть его опущенной вдоль тела руки сжата в кулак. В этой позе есть что-то почти угрожающее и вместе с тем неуклюжее – у него сейчас нелепый вид дровосека в воскресном костюме. Свет лампы, висящей под потолком, бликует в его чёрных, разделённых на пробор, гладких, словно покрытых лаком, волосах. Но его глубоко посаженных глаз я не вижу…
Он не улыбается, потому что хочет мной обладать, это ясно.
Он не желает мне добра, этот человек, он желает меня. Ему сейчас не до улыбок, даже двусмысленных. Меня это начинает тяготить, я предпочла бы, чтобы он был весело возбуждён и чувствовал себя уверенно в роли мужчины, который хорошо пообедал, а потом долго пялил глаза на сцену из первого ряда партера…
Страстное желание отягощает его, словно тяжёлый меч.
– Чего же вы не уходите, мсье?
Он отвечает поспешно, словно я его разбудила:
– Ухожу, ухожу, мадам! Конечно, ухожу. Прошу вас принять мои извинения и…
– …выражение глубокого к вам почтения! – невольно подхватила я.
Ничего смешного здесь не было, но он смеётся, наконец смеётся, с его лица слетело то упрямое выражение, от которого я терялась…
– Как мило вы мне подсказали, мадам. Я хотел у вас ещё спросить…
– Ну уж нет! Немедленно выметайтесь! Я и так проявила непонятное долготерпение и рискую заболеть бронхитом, если тотчас не скину этого платья, в котором мне было так жарко, как трём грузчикам вместе взятым.
Указательным пальцем я толкаю его к выходу, потому что едва я сказала, что должна снять платье, как на его лице снова появилось мрачное, сосредоточенное выражение… Уже затворив за ним дверь и задвинув задвижку, я слышу его приглушённый, молящий голос:
– Мадам, мадам, я только хотел бы знать, любите ли вы цветы и какие?
– Мсье, мсье, оставьте меня в покое! Я ведь не спрашиваю вас, каких поэтов вы любите и предпочитаете ли вы море горам! Уходите!
– Ухожу, мадам! Всего доброго!
Уф!.. Этот долговязый мужлан прервал мой приступ мрака. И за то спасибо.
Вот такие-то победы я и одерживаю последние три года… Господин с одиннадцатого места в партере, господин с четвертого места ложи на авансцене, сутенёр с галёрки. Записка, ещё одна записка, букет цветов, снова записка – и всё! Моё молчание их быстро охлаждает, и я должна признаться, что особенно они не упорствуют в своих домогательствах.
Судьба, которая отныне бережёт мои силы, как будто сама отводит от меня упрямых обожателей, этих охотников, которые ни перед чем не отступают… Те, кому я нравлюсь, не посылают мне любовных писем. Торопливые, грубые и неуклюжие записки выдают их желания, но не мысли… Исключение составляет лишь один бедный мальчик, который на двенадцати страницах излагал свою болтливую и униженную любовь. Должно быть, он очень молод. Он воображал себя этаким прекрасным принцем, бедняга, и богатым, и всемогущим: «Я пишу вам всё это за стойкой у торговца вином, где я завтракаю, и всякий раз, когда я поднимаю голову, я вижу в зеркале свою противную рожу…»
И тем не менее этот поклонник с «противной рожей» о ком-то мечтал в своих воздушных замках и заколдованных лесах.
А вот меня никто не ждёт на моём торном пути, который не ведёт ни к славе, ни к богатству, ни к любви.
Впрочем, к любви, это я хорошо знаю, вообще не ведёт никакой путь. Это она сама кидается вам наперерез. Она навсегда преграждает вам путь, а если почему-либо сходит с него, то путь ваш оказывается перерытым, разрушенным.
То, что осталось от моей жизни, напоминает детскую игру, состоящую из двухсот пятидесяти маленьких, пёстрых, неправильной формы кусочков фанеры… Должна ли я терпеливо подбирать эти кусочки, прикладывая их один к другому, чтобы составить в конце концов простенькую картинку: мирный домик, окружённый густым лесом? Нет, нет, кто-то стёр все линии этого милого пейзажа. Я не отыщу даже частичку синей крыши, расцвеченной жёлтым лишайником, ни нетронутого виноградника, ни дремучего леса без птиц.
Восемь лет в браке и три года в разводе – вот что заполнило треть моей жизни.
Мой бывший муж? Да вы все его знаете. Это Адольф Таиланди, художник, прославившийся своими пастельными работами. Вот уже двадцать лет как он пишет одни и те же портреты женщин: на дымно-золотистом фоне, заимствованном у Леви-Дюрмера, стоит декольтированная дама; её волосы, будто драгоценная вата, этаким нимбом окружают бархатистое лицо. Кожа у висков, на затенённой шее, в округлости груди всё такая же немыслимо бархатистая, окрашена радужным отливом, подобным голубоватой дымке на тёмном винограде, к которому так и тянутся губы.
– Ни Потель, ни Шабо не написали бы лучше, – сказал однажды Форэн, любуясь пастелью моего мужа.
Если не считать уменья изобразить эту пресловутую «бархатистость», то у Адольфа Таиланди, как мне кажется, нет таланта. Но я охотно признаю, что его портреты на редкость привлекательны, особенно для тех женщин, которые ему позируют.
Ну, прежде всего, в каждой своей модели он самым решительным образом прозревает блондинку. Даже скудную шевелюру госпожи де Гюимон-Фотрю он расцветил неизвестно откуда взявшимися ало-золотистыми отсветами, дающими рефлексы на её матовых щеках и крыльях носа, превратив тем самым эту худосочную брюнетку в блудливую златокудрую венецианку.