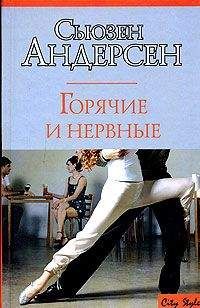Нелл попыталась встать со стула, но колени ее дрожали, и она снова села. Ей удалось немного отсрочить неминуемое разоблачение, но что делать дальше – она не имела представления и еще долго не могла заставить думать свой потрясенный мозг. Перед ней проплывали только совершенно ненужные картины: вот она достает из тайника ожерелье, чтобы показать Дайзарту, – о, много месяцев назад! Вот Дайзарт сидит за этим самым столом и пишет ей, что не брал ее сапфиров и вообще ничего другого из ее любимых вещей. Вот лицо Кардросса, когда он так резко говорил с ней о Дайзарте и потом внезапно оборвал свою речь… Она глухо застонала и прикрыла глаза рукой. Дайзарт знал, что ей не нравится ожерелье Кардроссов, но как он мог решить, что это ее собственность и что она может распоряжаться им по своему желанию? Или ему все равно?
Бесполезно было задавать себе такие вопросы; ответить на них мог только Дайзарт. И тут же вставал другой, куда более важный вопрос: где Дайзарт? Поначалу его отъезд из Лондона казался ей необъяснимым, но теперь ей пришло в голову, что продавать или закладывать ее ожерелье в Лондоне слишком опасно. Она мало разбиралась в таких вещах, но полагала, что это очень известное украшение и конечно же тот, кто видел его, не мог бы спутать его ни с чем другим. Оно было сделано давным-давно, еще во времена Елизаветы, для кого-то из тогдашних Кардроссов, который подарил его своей невесте, и оно фигурировало на многих семейных портретах. Это была искуснейшая работа: камни были собраны в виде цветов и листьев, и каждый цветок дрожал на кончике тончайшей золотой нити. Нелл всего два раза надевала его, и хотя оно вызывало всеобщее восхищение и немалое любопытство (потому что никто не понимал, как цветы из драгоценных камней могут держаться на расстоянии полудюйма от груди Нелл и почему они кивают и дрожат при каждом ее движении), она знала, что на самом деле ожерелье не идет ей: в нем было слишком много камней, слишком много крученого золота у оснований каменных цветов, слишком много листьев из сверкающих изумрудов. Однажды она сказала Кардроссу, что надо бы отдать его в музей. Он согласился, что самое подходящее место для него – стеклянная витрина, но ему хотелось, чтобы она надевала его на придворные балы, и потому ожерелье так и не попало в музей. Оно не выставлялось публично, но Нелл полагала, что драгоценность достаточно известна, чтобы заставить Дайзарта искать для нее покупателя в провинции. Она тщетно спрашивала себя, как, по его мнению, она должна скрывать потерю, нашел ли он достаточно искусных ювелиров, чтобы сделать копию, или (как ей бы хотелось надеяться, ибо это был лучший вариант) он не продал его, а только заложил.
Она осознала присутствие Саттон, только когда та благовоспитанно кашлянула в соседней комнате. Время шло, и даже стоя на краю пропасти, она все равно должна одеваться к обеду. Она поднялась, держась на сей раз гораздо тверже на ногах, но лицо ее было таким бледным, а в глазах светилось такое напряжение, что вошедшая в спальню Саттон воскликнула, что миледи не иначе как заболела. Она взглянула на свое отражение в зеркале и сама удивилась, какой у нее изможденный вид. Выдавив из себя улыбку, она сказала:
– Я не больна, но у меня весь день болит голова. Вы должны нарумянить мне щеки.
– Позвольте сказать, миледи, я бы предпочла, чтобы вы легли в постель. Уж я-то знаю, что такое мигрень.
Нелл покачала головой, но согласилась выпить несколько капель лауданума, разведенных в стакане воды. Хотя голова у нее не болела, она никогда еще так не нуждалась в успокоительном средстве.
Когда Саттон добавляла к ее туалету последние штрихи, Кардросс попросил разрешения войти. Нелл испытала мгновенный ужас, что Саттон может проговориться Кардроссу об исчезновении ожерелья, и ее язык прилип к гортани. Но Саттон ничего не сказала. Лицо ее и так было малоподвижным, а в присутствии Кардросса становилось похожим на маску. По своему обыкновению, она сделала легкий реверанс и вышла из комнаты. Нелл вспомнила, что Саттон презирает мужчин, и ей стало легче дышать.
Кардросс был все еще одет в утренний костюм, и при виде его синего сюртука и ботфорт с кисточками она вспомнила, что он сегодня обедает не дома. Стараясь, чтобы в ее голосе звучала легкость, она сказала:
– А! Насколько я помню, Даффи-клуб?
Он улыбнулся:
– Нет, салон Крибба! У вас сегодня свободный вечер?
– Да. И я так рада! У меня весь день болит голова.
– Кажется, уже несколько дней.
Она взглянула на него с тревогой и подозрением.
– Нет, но должна сознаться – я до смерти от всего этого устала.
– От чего-то вы устали, это точно. – Он говорил очень ровным голосом, но выражение его лица пугало ее. – У меня даже возникло предположение, что вы влюблены – так же влюблены, как Летти!
Она уставилась на него невидящими глазами. На губах ее появилась чуть заметная трагическая улыбка, но она отвернулась и ничего не ответила.
– Желаю вам скорого выздоровления, – сказал он. – Но кто же счастливец, завоевавший вашу благосклонность?
– Вы, кажется, шутите надо мной, – сказала она, все еще глядя в сторону. – Это нехорошо с вашей стороны – особенно когда у меня болит голова!
– Простите меня. – После едва заметной паузы он добавил: – Я пришел сообщить вам – и надеюсь, это облегчит вашу головную боль, – что Эллендейл уехал на несколько дней в деревню, кажется, к своему дядюшке, я узнал об этом сегодня. Так что можете ослабить бдительность – и я хотел бы, чтобы он не появлялся в городе до самого отъезда!
– Это не ваша вина. Я знаю, что у вас и так хватало неприятностей.
– Правда? – сказал он. – Что ж! Очень хорошо, что вы это заметили.
Х отя Нелл провела почти всю ночь в отчаянных раздумьях, они не принесли ей ни решения проблемы, ни тем более утешения. Пока Дайзарт оставался вне досягаемости, она ничего не могла сделать, не могла даже отыскать его, потому что если бы у него дома и знали, куда он отправился, не могла же она поехать вслед за ним! Однако самым важным для нее было найти Дайзарта прежде, чем он продаст ожерелье. Поскольку этого сделать она не могла, она стала думать – сможет ли он потом получить ожерелье обратно. Счет от Лаваль внезапно утратил всякое значение – причем настолько, что она, почувствовала даже легкое удивление: как это она боялась рассказать о нем Кардроссу? По сравнению с потерей ожерелья это казалось мелочью; мелочью, которая уже никогда не могла бы привести к несчастью, которое маячило перед ней теперь. Ее мучили полученные в детстве уроки нравственности: она так и видела перед собой серьезное лицо мисс Уилби, которая внушала ей, как тяжелы последствия попыток сокрыть содеянное. У мисс Уилби было множество примеров на все случаи, но ни один из них – даже ужасающая история некоего отщепенца, чей страшный конец на эшафоте явился в конечном итоге результатом того рокового дня, когда он стащил у матери из шкафа банку джема и не сознался в этом, – ни один из них не был так ужасен, как последствия попытки Нелл обмануть Кардросса. Она боялась, что, если она сознается, он никогда не поверит, что она вышла за него по любви, а не из-за богатства; и теперь ей казалось вполне вероятным, что, как это ни печально, его уже не заботит, любит она его или нет. Она вызвала у него подозрения, его глаза смотрели жестко; и еще ни разу после своего возвращения из Мериона он не пытался сделать нечто большее, чем просто поцеловать ей руку. Если его любовь еще не совсем умерла, правда о черной неблагодарности и подлости жены наверняка нанесет ей смертельный удар.