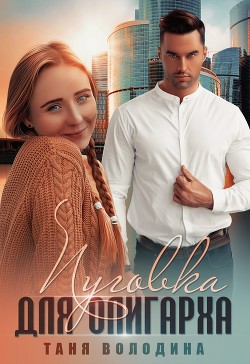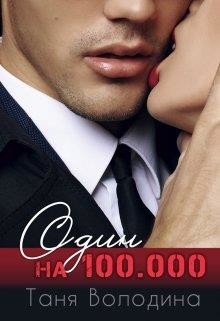— Мы потеряли наш Калин. Мы должны вернуться на родину…
Он услышал, что солдаты перестали долбить кирками засыпанный вход на кухню, и слёзы выступили у него на глазах.
Он не знал, что произошло между Стромбергом и штабными офицерами, но видел, как всю ночь командование Верхнего города заседало в губернаторском дворце. Утром ворота надвратной башни ненадолго открылись, и солдат побежал в Ратушу с депешей. Стена, опоясывающая холм, опустела, лишь две старые гаубицы сиротливо жались друг к другу. Во всех домах началась оживлённая суета. Пришёл раненый в голову капитан и сообщил, что капитуляция назначена на завтра.
Башню Линдхольмов оставили в покое.
Барон решил собрать вещи, но галерея, ведущая из кухни в новое крыло, была намертво завалена обломками. Он приказал Гансу и Юхану копать проход, но скоро понял, что им не справиться. Да и какой смысл?
— Хватит, — сказал он. — Пусть новый хозяин разбирает завал. Покину Калин налегке.
— А как же ваши картины, столовое серебро, одежда? — спросил Юхан.
— Это добыча победителя, Юхан.
— Почему вы не хотите остаться? Русский генерал сказал, что примет всех желающих.
— Стать на колени перед Меншиковым и присягнуть на верность России? Мне, шведскому барону?
— Зато будем жить как раньше, — ответил Юхан. — Отремонтируем тут всё. Может, женимся когда-нибудь, детишек заведём…
Барон с подозрением уставился на слугу:
— Ты дурак, Юхан? У меня никогда не будет детей, тебе ли не знать? Моя судьба — умереть в одиночестве, — Эрика передёрнуло. — И не слоняйся тут без дела! Нагрей воды, я желаю мыться и бриться. И принеси мыла и масла! Принеси всё, что найдёшь у Марты. И хоть какую-нибудь чистую одежду.
Он собирался проститься с Маттео.
71
Поздно вечером, когда благоухание жасмина затопило город до самых башенных бойниц, Эрик выбрался из окна и спустился на пляж. За ним вылез недовольный жизнью Юхан. Лишиться хозяина, с которым прожил четверть века, — не шутка! В Нижний город их пропустили без единого вопроса. Они пересекли непривычно пустую Ратушную площадь, обогнули Домский собор, воткнувший в небо ажурную готическую колокольню, и прошли мимо роскошных зданий купеческих гильдий. Главная улица больше не выглядела вымершей. Кое-где, несмотря на поздний час, горели свечи, и можно было заглянуть в окна и увидеть, как горожане коротали тёплый июньский вечер. Стромберг был прав: для купцов ничего не изменилось. Не изменится и завтра, когда новые хозяева взойдут на патрицианский холм.
В гостиной фрау Майер за пустым столом тихо сидели хозяйка и синьор Мазини. Тётушка с трудом поднялась, чтобы обнять племянника, и стало заметно, как одряхлела она за последние недели.
— Милый мой, Агнета умерла, ты знаешь?
— Знаю. Она отправила Линду в монастырь.
— И правильно. Негоже ребёнку видеть, как мать умирает от чумы.
— А она от чумы умерла?
— От чего же ещё? Отослала всех слуг, чтобы никто не заразился. Конечно, от чумы.
Эрик подумал, что это подходящая версия. Рассказывать правду он не собирался: она никому не нужна и принесёт лишние страдания. К тому же, умершую от чумы никто не осудит за детоубийство. Мазини горестно воскликнул:
— Ах, она до самого конца думала о других! Какое доброе сердце! А я бросил её без помощи, без утешения, без последнего прощания!
— Вряд ли бы она вам обрадовалась, Мазини, — буркнул Эрик и повернулся к Катарине: — Шведы завтра покинут город, тётушка. Мы сдадимся и уплывём за море.
— Нет! — у Катарины брызнули слёзы.
— И вы тоже? — взволнованно спросил Мазини.
— Я тоже.
— Господи, какое горе! Как же так, бросить свои дома, уехать непонятно куда! — запричитала Катарина, у которой не осталось родни, кроме Эрика.
— Это война, тётушка! Где синьор Форти? Я хочу с ним проститься.
— Он в учебной комнате, ваша милость. На третьем этаже. Пишет стихи на мою новую музыку, которую я сочинил, когда… когда мы с фрау Гюнтер… — он не договорил и достал носовой платок.
Эрик оставил тётушку плакать в объятиях маэстро и по витой деревянной лестнице взлетел на третий этаж. Постоял мгновение, успокаивая сердце, и распахнул дверь.
Маттео в одной рубашке и бриджах сидел за столиком под неярким пламенем свечи. Смоляные волосы растрепались и крупными завитками падали на лицо. Он грыз белое гусиное перо. Обернулся на скрип двери и замер:
— Это вы…
Эрик закрыл за собой дверь. Увидел у стены старинный тётушкин клавесин, нотный пюпитр и пару стульев. В дальнем конце просторного склада виднелась лебёдка для подъёма грузов, а у раскрытого окна лежали необъятные канатные бухты. Юхан не обманул, на них можно было спать. Пахло душистым перцем. Сколько Эрик себя помнил, на этом складе всегда пахло перцем. Он прислонился спиной к двери, сказал внезапно севшим голосом:
— Вы должны кое-что обо мне узнать.
Маттео порывисто встал и приблизился:
— Что? Говорите.
— Графский паж Томас изнасиловал меня по приказу Стромберга. Причина, по которой я не сопротивлялся, значения не имеет. Я не буду это обсуждать. Я не жалею о своём решении, оно было правильным, но… — Эрик сглотнул и сдавленно продолжил: — это многое во мне изменило. Я осквернён, Маттео. Я считаю, вы имеете право знать обо мне всё. Завтра я покину город вместе с остальными шведами. Не просите меня остаться, выбор сделан. Я пришёл проститься.
— Хорошо, — тихо ответил Маттео, ужаснувшись признанию. Страшная неприглядная истина превзошла его смутные догадки. — Но эта ночь наша?
— Да, — шепнул Эрик, пряча взгляд.
Маттео обнял его и принялся целовать глаза, щёки, губы. Когда почувствовал зарождение ответной страсти, потащил к ложу из конопляной пеньки и упал на неё спиной, подставляя лицо и шею под жадные поцелуи. Эрик грубо прикусывал нежную кожу, пытаясь расправиться с мелкими пуговицами на рубашке Маттео и одновременно скинуть собственный камзол. Маттео путался в завязках на баронских кюлотах.
Они шумно возились в полутьме, высвобождаясь из ненужной одежды, но ни на миг не прерывали поцелуй. Исступление охватило обоих. Голые, они сплелись в тесном объятии, желая раствориться друг в друге, стать одним целым. Эрик, соскучившись по гибкому смуглому телу, накрыл его собой, придавил к шершавому канату и перестал терзать пунцовые губы. Сполз ниже, целуя чувствительные соски, но Маттео вдруг схватил его и ловко опрокинул на спину. Уселся сверху, прижался гладкой горячей грудью и зашептал в ухо:
— Если мне суждено вас потерять… Если завтра мой рай станет адом… Позвольте мне в последнюю ночь вкусить все его запретные плоды…
Лунный свет превратил голубые глаза в призрачные волшебные озёра. Эрик боялся увидеть в них жалость. Всё что угодно, только не жалость!
— Почему вы просите, Маттео?
— Потому что я мужчина, Эрик. Такой же, как и вы.
Этот аргумент звучал убедительнее, чем невнятные слова о залечивании ран. Как мужчина Эрик прекрасно понимал подобное желание. Подавив смятение, он обмяк под Маттео, сказал только:
— Там, в кармане моего камзола…
Маттео кивнул. Парадоксальная двойственность его натуры не позволила Эрику предугадать последовательность его неспешных изысканных ласк. Никто дрожащим языком не очерчивал выпирающий кадык Эрика, никто не перебирал волосы на груди, никто не играл с его яичками так самозабвенно, как мужчина-кастрат. Эрик вздыхал от удовольствия, когда Маттео перекатывал их в ладони и приподнимал, словно взвешивая мешочек с драгоценным розовым перцем. Маттео завораживала его полноценная мужественность, и Эрик позволял собой любоваться.
Запахло миндалём. Эрик прикрыл лицо руками, чувствуя, как румянец стыда нагревает щёки. Но Маттео не спешил. Томительно долго он гладил бёдра и ягодицы, то приближаясь к цели, то отступая. Эрик податливо раскрывался под ласкающими руками. Невесомые поцелуи Маттео рассыпались по животу, скатились тёплым жемчугом между ног. Эрик дёрнулся и поджался от первого касания. Под веками полыхнуло красным — отзвук пережитой боли. Он тяжело дышал, как будто нежнейшие, едва уловимые прикосновения обжигали огнём.