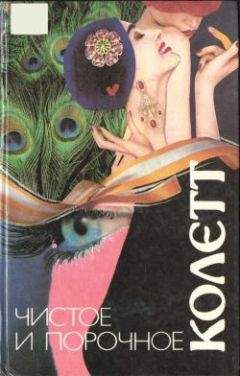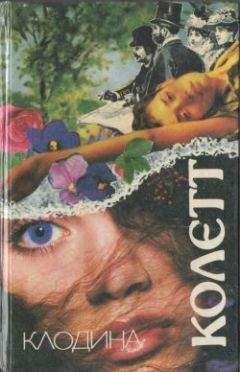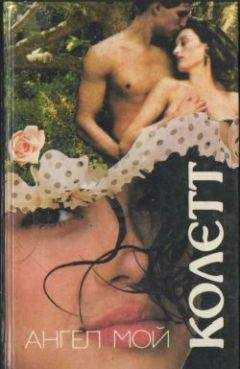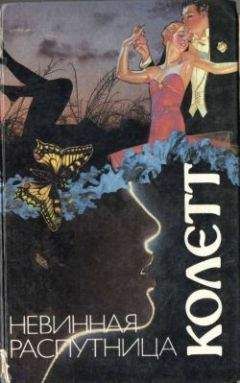Его кровать слегка подрагивала, сотрясаемая вздымающейся Великой Лихорадкой. Он почувствовал себя на три-четыре года младше, и страх, почти ему неведомый, подал голос. Он чуть не позвал: «Помогите, Госпожа Мама! Вашего мальчика уносят!»
Ни разу – ни в своих скачках, ни в изобильной вотчине самых причудливых звуков – горбатых звуков, несущих звонкие сосуды на головах, на жучиных спинках, острых звуков с мордочками лангустов, – ни разу, нигде Жану не доводилось видеть, выносить, создавать такую круговерть, которую слух, словно рот, смаковал, которую взгляд перебирал, измученный и заворожённый. «Спасите, Госпожа Мама! Помогите мне! Вы же знаете, я не могу ходить! Я умею только летать, плавать, скользить с тучи на тучу…» Одновременно что-то неизъяснимое, забытое пробуждалось в его теле, далеко-далеко, на неизмеримом расстоянии, в самых мысках его бесполезных ног – беспорядочное движение разрозненных и заблудившихся муравьёв. «Помогите, Госпожа Мама!»
Но другая душа, чьи решения не зависели ни от физической немощи, ни от материнских забот, властным знаком призвала к молчанию. Волшебная сила удержала Госпожу Маму за оградой, в юдоли, где она ждала в смирении и тревоге, пока не дорастёт до своего маленького сына.
И он не позвал. К тому же неизвестные фантастические пришельцы уже приступали к похищению. Они возникали отовсюду, обволакивали его жаром и холодом, мелодической пыткой, цветом, как повязками, пульсацией, как гамаком, и, повернувшись было, чтобы недвижно бежать к матери, он вдруг передумал и бросился, отдаваясь полёту, сквозь метеоры, туманы, молнии, и они мягко подхватили его, сомкнулись за ним, распахнулись, и, вот-вот уже совершенно счастливый, неблагодарный и весёлый, он заметил, что какой-то тонкий печальный звон, словно разбилось что-то стеклянное, отделяет его от блаженства, чьё прекрасное имя ему ещё предстояло узнать – ёмкое и золотое имя: смерть. Слабый звон, печальный и лёгкий, долетевший, быть может, с навсегда покинутой планеты… Звук, чистый и горестный, привязавшийся к умирающему ребёнку, возносился так преданно, что напрасно ослепительное бегство стремилось от него оторваться.
Быть может, странствие было долгим. Но, свободный от ощущения времени, он мог судить только о его разнообразии. Часто ему казалось, что его кто-то ведёт, неразличимый и сам заблудившийся. Тогда он стонал, оттого Что не может взять на себя обязанности кормчего, и слышал собственный стон попранной гордости – или усталости, такой усталости, что он сходил со своего курса, покидал кильватер веретенообразного шквала и, обессиленный, забивался в угол. Тут ему становилось не по себе в пространстве без углов, где не было материальной субстанции, имеющей углы, только ледяной поток тёмного воздуха, только ночь, в которой он был всего лишь маленьким мальчиком, потерявшимся и плачущим. Потом он оказывался на ногах, вдруг несметно умножившихся и превратившихся в ходули, которые секла хлёсткими розгами режущая боль. Потом всё исчезало, один слепой ветер свидетельствовал о быстроте полёта.
Переносясь от знакомого материка к неведомому морю, он уловил несколько слов какого-то языка, к его удивлению, понятного:
– Меня разбудил звон разбитого бокала…
– Он пошевелил губами, мадам не думает, что он хочет пить?
Ему хотелось бы знать, как зовут этот голос. «Мадам… Что за мадам?» Но скорость уже сглатывала слова и память о них.
Как-то бледной ночью, остановившись с разгону, так, что застучало в висках, он подобным же образом поймал какие-то человеческие слоги и захотел их воспроизвести. Резкая остановка мучительно близко столкнула его с каким-то предметом, твёрдым, вещественным, вклинившимся между двумя благородными необитаемыми мирами. Предметом бессмысленным, в тонкую полоску, щетинящимся очень мелкими волосками и состоящим в таинственном союзе – это он обнаружил позже – с отвратительными мойюныйдругами. «Это же… сейчас… я знаю, это… рукав…» Тут он, крылатый, нырнул обратно в успокоительный хаос.
Другой раз он увидел руку. Немного шершавая, с белыми метинками на ногтях, она слабыми пальцами отталкивала дивную тигровую громаду, надвигающуюся с горизонта. Жана разобрал смех. «Бедная ручка, этой громаде она на один глоток – надо же понимать, такая громада, вся в чёрных и жёлтых полосах и такая умная на вид!» Слабая маленькая рука боролась, растопырив пальцы, и параллельные полосы начали растягиваться, расходиться и гнуться, как податливая решётка. Между ними открылся широкий зев и заглотил хрупкую руку, и Жану стало её жалко. Эта жалость задерживала его, и он, рванувшись, устремился дальше. Но жалость он уносил с собой, чем-то схожую с неотвязным звоном бокала, разбитого когда-то давным-давно. Начиная с этого времени, какие бы бездны ни укачивали бестревожное головокружение, его странствию стали мешать отзвуки, плач, беспокойство, похожее на попытки думать и вызванное неуместным умилением.
Сухой лай вдруг разорвал пространство, и Жан пробормотал: «Рики…» Издалека послышалось что-то вроде рыдания, повторившего: «Рики! Мадам, он сказал – Рики!» Другой голос пролепетал: «Он сказал Рики… Он сказал Рики…»
Какая-то маленькая сила, трепетная и жёсткая, чью двустороннюю хватку он ощущал под мышками, хотела, казалось, поднять его вверх. Она нажимала, и Жан недовольно заворчал. Если б он мог передавать указания этой маленькой силе и её твёрдым выступам, он бы объяснил ей, что так не обращаются с великим путешественником, что он привык к неосязаемым колесницам, неподкованным скакунам, к саням, пролагающим по радуге семицветные колеи… Что он ни от кого не потерпит принуждения, кроме… кроме стихий, чью мощь одна лишь ночь высвобождает и направляет… И что, к примеру, птичья грудка, которая, откуда ни возьмись, льнёт к его щеке, не имеет никакого права… А впрочем, это не птичья грудка, потому что на ней нет перьев, только по краю она опушена длинной прядью… «Это могла бы быть щека, подумал он, – если б во вселенной существовала другая щека кроме моей… Хочу заговорить, хочу прогнать эту… эту поддельную щёку… Я не разрешаю меня трогать, не разрешаю…»
Собираясь с силами, чтобы заговорить, он втянул ноздрями воздух. С воздухом вошло чудо, чародейство памяти – запах волос, кожи, который он совсем забыл по ту сторону мира и от которого в нём забил бурный поток воспоминаний. Он закашлялся, борясь с этим половодьем, перехватывающим горло, утоляющим жажду, от которой пересохли уголки губ, солёной влагой переполняющим веки и милосердно затуманивающим приземление на жёсткую кровать… В безымянной дали чей-то голос произнёс, повторяясь бесконечным эхом: «Он плачет… Господи, он плачет…» Голос потонул в какой-то буре, из которой вырывались бессвязные слоги, всхлипы, призывы к кому-то присутствующему, невидимому… «Скорей, скорей, подите сюда!»