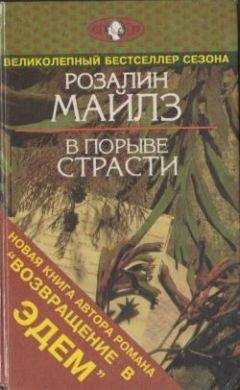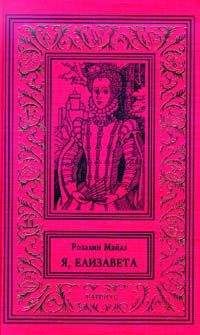Прошло несколько минут, пока из дверей показалась крепко сбитая мускулистая фигура с неизменной банкой. Марк вздрогнул, увидев полицейских, чьи суровые, обвиняющие фигуры закрывали солнце.
– Я этого не делал! – истерически закричал он. – Это не я, я сучку пальцем не трогал!
– Сучка она была, да, Марки? – поинтересовался Джордж.
– А почему, Марк? – подхватил Роско. – Что она натворила, что ты ее так зовешь?
К ужасу Джона, пьяница неожиданно повернулся к нему, тыча в его сторону трясущимся пальцем.
– Его спросите! – взвизгнул он. – Его, мать вашу! Он ее трахал!
– Ну и ну!
– Ну, ты подумай!
Две пары выцветших глаз, уставившихся на Джона, потрясли и напугали его даже сильнее, чем само обвинение. Густо покраснев, он еле выдохнул:
– Это смешно! Я никогда… никогда к ней не прикасался!
– Да уж, – сказал Джордж с тем же дружелюбным интересом. – Они все так говорят, правда, Роско?
– Да уж, конечно, правда, Джордж?
– Да, еще бы, мать их всех! – пьяно орал Марк. – Трахал, я знаю, она сама мне говорила. И его братец, он тоже ее трахал!
Интерес на лицах полицейских усилился.
– Брат мистера Джона, Марки?
– То есть мистер Алекс Кёниг?
– Да, оба! Все они!
– Оба, говоришь?
– Все, говоришь, Марки?
Это не наяву, думал Джон, как сквозь туман, сейчас я проснусь, и окажется, что я видел дурной сон. Но мрачная клоунада продолжалась, и он вдруг понял, что дальше будет еще хуже.
– Он сказал, оба, Джордж?
– Он сказал, все они, Роско?
Полицейские одновременно наклонились к Марку.
– Да, все, – вопил свихнувшийся муж. – И старик с ней спал, он первый! Он перекинулся на нее, когда завязал с Розой, когда та слишком старая стала! И все они ее трахали!
– Ну, ну, ну.
– Никогда бы не подумал, правда, Роско?
– Слушайте!
Голос Джона звучал словно за миллион миль. Он умолк, а затем попытался высказаться снова, не веря в свое поражение.
– Чушь он несет, старый лжец! Я его жену не трогал. И отец тоже, могу поклясться!
– Ты можешь поклясться! – с отвращением рассмеялся Марк. – Что ты знаешь, сыночек, что ты видел? Спроси Розу! Она у Кёнигов первой шлюхой была, она все знает, спроси ее! А моя Элли – последней.
Первая.
И последняя.
Если Роза была первой, а Элли – последней, то кто еще?
Двум полицейским болванам недолго пришлось переливать из пустого в порожнее, чтобы вытянуть из пьяной развалины следующую колкость.
– Она была баба что надо, лучше за версту не найдешь, ее все мужики хотели! А Кёниги, чего хотят, то берут. Подумаешь, замужем за другим. Подумаешь, за лучшим другом.
Марк поднял на Джона отупевшие от пьянства глаза, словно обвиняя его во всех смертных грехах.
– Другого такого негодяя, как твой папочка, свет не видел! Одурачил лучшего друга, трахнул его жену. Бедняга Бен!
Он рассмеялся, и от этого звука у Джона мороз по коже прошел. Крохотные глазки горели злобой.
– Оставил в гнезде кукушонка и думать забыл.
Он повернулся и, словно в замедленной съемке, указал в сторону поселка, на Джину, которая была поглощена работой и на мгновение застыла в танце, как фигурка из иного времени. Джону в последний миг отчаянно захотелось остановить вращение земли, задержать падающую лавину, пока она не накатила, сминая, уничтожая и его и Джину.
Марк довольно хихикал, упиваясь его муками.
– Она, она это, вот какого кукушонка твой папаша Бену Николсу подкинул, когда его жену трахнул! Нашу Джину. Пойди поздоровайся с сестренкой!
Если бы на ее месте оказалась любая другая женщина в Кёнигсхаусе, любая другая в мире… Если уж отцу так нужны были интрижки, если одной женщины ему не хватало…
Но мать Джины?
Неужели не было предела его скотству?
Джон не помнил, как выбрался из поселка аборигенов. Последним, что он видел, были тупые лица полицейских, на которых разливалось похотливое ликование по мере того, как слова Марка постепенно доходили до них.
– Не… не болтайте об этом, ладно, ребята? – пробормотал он, пламенея от стыда. – Держите это в тайне, а?
И это говорил он – он, который насмехался над Алексом за то, что тот хотел замять скандал с Кёнигами. Теперь он сам пресмыкается перед полицейскими! Джон пошел прочь, как зомби, на негнущихся ногах, сел на лошадь и поскакал в буш.
Он скакал и скакал, все дальше и дальше, как человек, которому некуда ехать.
Ровный безводный пейзаж пустошей, ненавистный тем, кто не изведал даваемого им душевного покоя, отвечал состоянию его внутреннего мира: такой же истощенный и заброшенный, пустой, выжженный и высушенный. Пронзительные крики длиннохвостых попугаев, насмешливое курлыканье журавлей, неотвязные вопли кроншнепа, похожие на детский плач, казалось, исходили из самого сердца Джона, разрываемого утратой. Он смог придумать лишь одно: оставаться в стороне от усадьбы, пока не решит, что делать дальше.
Джина – его сестра?
Единокровная сестра?
Нельзя любить ее, нельзя на ней жениться.
Боль звенела в нем, как вопль. Джон ехал милю за милей, беззвучно рыдая. Он не представлял, что может быть так больно. Человек, к которому, он считал, можно обратиться в любом горе, оказался единственной душой на свете, к которой нельзя воззвать.
Джина.
Даже ее имя теперь звучало как стенание, как горестный крик. А что значат его страдания по сравнению с ее горем, когда он ей скажет, что все кончено: завершилось, не успев по-настоящему начаться!
Но как порвать без всякого повода – ведь он не мог сообщить ей истинную причину, рассказать, что ее мать изменяла ее отцу с его отцом, что она не дочь человека, которого всю жизнь звала папой…
Джон громко застонал. Куда ни кинь – всюду клин! И как ему выпутаться? Никак!
А если это неправда?
Эта мысль стала первой соломинкой, за которую Джон ухватился; она приходила снова и снова, как ложные обещания надежды умирающему. Марк был пьян, он горький пьяница и в ярости на неверную Элли мог брякнуть что угодно. Он мог все выдумать просто назло Кёнигам.
А если бы полицейские сегодня утром не попросили его съездить с ними в поселок, он не услышал бы безумных обвинений Марка, вообще никогда ничего бы не узнал. Больше того, если Марк ошибается насчет него – а Джон мог поклясться, что ни разу не тронул жену Марка! – тогда почему он не может ошибаться насчет отца?
Это только сплетня, слухи, под ними нет никакой основы, нет доказательств!
Почему бы не притвориться, будто он не слышал, что наговорил свихнувшийся абориген, не вернуться, как он и собирался, домой и не жениться па Джине? Но эта мысль умерла, едва родившись. Джон не мог так поступить с любимой. Он не предаст ее доверия, ее веры. Потому что всю жизнь, весь отпущенный ему срок он проживет в страхе, в страхе за себя и за нее, что в один прекрасный день правда выплывет наружу.