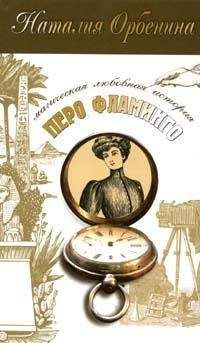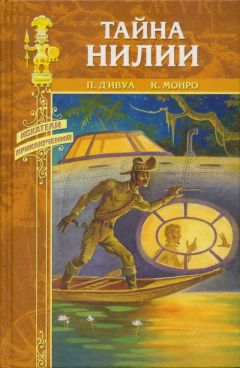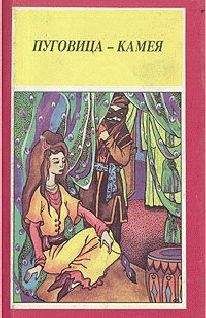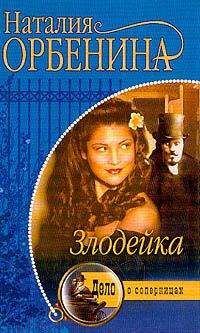Чего надобно для того, чтобы понять, что любовь ушла? Слова? Их иногда совершенно не требуется. Достаточно взгляда. Да, да, именно взгляды. Взгляды… Тогда, в университете, во время доклада…и теперь, вчера…что она сказала? Розовые платья? Это к чему? Впрочем, раз-другой он и впрямь запрещал ей одеваться в розовое, полагая, что это цвет глупости и наивности. Так что же, за это не любить?
Да нет же, глупый старый баран! Тут дело в ином, не о том она хотела сказать, не о платьях, а о чувстве свободы и собственного достоинства! Ты все время видел в ней маленькую девочку, которую надо учить правильно себя вести в обществе строго умного мужа. А она хотела просто жить и просто любить. Значит, и впрямь, не было любви. Не было? Двадцать два года прожить, принимая за любовь покорность и послушание? Матерь Божия!
Соболев метался по комнате, то садился, то вскакивал, теребил седые волосы, которые и без того уже стояли дыбом. Под утро, когда рассвело, он все же устал, прилег и слегка задремал, истомленный переживаниями. Проснулся же поздно, ближе к полудню, от какого-то шума и беготни. От непогоды не осталось и следа, яркое солнце светило в окно, и лучи его рассыпались по паркету. Что за шум? Наверное, молодежь веселится с утра. Надо опять пойти к жене и поговорить с ней начистоту, напрямик. Она не умеет лгать и изворачиваться. Они поговорят, все разъяснится. Страхи и подозрения рассеются.
Едва Соболев вышел в коридор, как наткнулся на горничную, которая спешно несла фарфоровый таз и кувшин с горячей водой.
– Куда мчишься не глядя, так и выплеснешь воду, ошпаришь всех, – заворчал профессор.
– Извините, барин, убегалась, это подай, да то принеси, – выдохнула горничная.
– Что же такое случилось, что бегать надо? – рассердился хозяин.
– Как же! – воскликнула девушка. – Барин-то молодой, ужасть как заболел!
– Как заболел? – обомлел Соболев, и не дожидаясь ответа, ринулся к сыну.
Умом Соболев понимал, что нельзя пугаться раньше времени, мало ли, перекупался накануне, но в груди противно екнуло и отозвалось холодом. И когда он спешным шагом вошел к сыну, дурные предчувствия оправдались.
Петя разметался на широкой кровати. На белых простынях как-то особенно яркими показались его лицо, грудь и руки, покрытые красными волдырями. По всему было видно, что они причиняют ужасные страдания зудом, болью, отвратительным видом.
– Вот, гляньте, Викентий Илларионович! – Зоя слегка отогнула край простыни. – Часа два как началось. Проснулся утром раненько, бодрый, веселый. Давай говорит, жена, спозаранок на речку или в поле! Мы и пошли гулять, красота, воздух был божественный, туман, тепло. А потом солнце вышло, и все засияло, так было чудесно! Домой пришли, сели завтракать, а он вдруг весь побелел, дурно ему сделалось, и говорит, горю весь, трясет и очень кожа везде болит. Я рукава сорочки отогнула и обомлела! И ведь поначалу только по телу было, а теперь гляжу, и на шею лезет, и на лицо. О, Господи, да что же это за напасть! – Зоя с трудом подавила вскрик, чтобы не волновать Петю.
От устрашающего вида волдырей, которые расползались по нежной белой коже сына, у Соболева подкосились ноги. Он весь побелел и хриплым голосом спросил:
– За доктором послали?
Зоя удрученно кивнула.
– Северову надо срочно телеграфировать! Северову! Пусть воротится! Он спасет Петю. Он знает…
При этих словах силы оставили Соболева и он повалился в кресло, спешно пододвинутое невесткой.
Прибывшему доктору достались два пациента. Но если со стариком было просто, известное дело, сердце шалит, то что стряслось с молодым человеком, было совершенно непонятно. Доктор выписал примочки и обтирания и уехал, посоветовав напоследок как можно скорее перебраться в Петербург и искать помощи у столичных профессоров. Но уже на следующий день стало ясно, что ни примочки, ни припарки, ни обтирания улучшения не приносят. Говорить о том, чтобы везти Петю в столицу, тоже не приходилось, так как жар усиливался, и больной впал в почти безумное состояние от боли. Доктор после очередного визита как-то странно задумался, и из дома профессора прямиком направился к уездному следователю, чтобы сообщить о своих подозрениях. Между тем волдыри на коже Пети быстро превращались в кровоточащие язвы, которые со страшной быстротой расползались по телу. Серафима Львовна и Зоя падали с ног, сменяя друг друга у постели несчастного. Спешно послали телеграмму Аристову. Пришлось Егору вместо сборов искать по столице лучших врачей да везти их на дачу к Соболевым. Вскоре у кровати Пети собрался целый консилиум, но и это не помогло понять, что с ним происходит. Доктора пришли в совершеннейшее недоумение. По всему выходило, что поражение кожи сходно с ожогами, но где он мог получить эти ожоги? Разве в воде? Но накануне купался и Аристов, и Когтищев, и слава богу, обошлись без подобных последствий. К тому же в лесной реке под Петербургом не водятся, к примеру, медузы.
Тем временем, больной, не в силах терпеть зуд и боль, терзал свои раны, несмотря на то, что его перебинтовали как младенца. Некоторые уже стали потихоньку заживать и затягиваться, оставляя чудовищные рубцы и шрамы. Но иные продолжали мучить Петю, прорывались, исторгая гной и кровь, обнажая истерзанную плоть, на которую наваливалась новая зараза. Это последнее обстоятельство и повлияло на исход болезни. Началось заражение крови, и состояние больного стало критическим.
Все время болезни сына профессор понукал всех домашних искать Северова, который как сквозь землю провалился. Когда за месяц до этого Викентий Илларионович рассказал жене о том, что нашел для их постояльца место корабельного доктора, она очень обрадовалась. Разумеется, она была ему благодарна за спасение в Египте. Но постоянное присутствие в доме человека, который догадывается о твоей самой сокровенной тайне, делало жизнь под одной крышей невыносимой. Именно Серафима внушила мужу мысль, что Северову будет удобней и покойней на даче. Нет, Северов никогда, никак не обнаружил свою причастность к их с Аристовым тайне. Но она боялась, боялась каждый миг, что он её выдаст, вольно или невольно. К тому же оставалось непонятным, что именно знает лекарь, как далеко он проник в их сокровенный мир? И как это узнать, ведь прямиком не спросишь? К тому же эти банки–склянки с непонятными порошками, мазями, снадобьями, которые Северов делал из всего, что росло, бегало и летало, вызывали у Серафимы чувство глубокой брезгливости и отвращения. Да, там, в пустыне она что-то пила, и это её спасло, но тогда она была почти безумна. Теперь бы она ни за что не стала бы лечиться питьем из летучих мышей или порошком из… э… сушеных результатов жизнедеятельности, как бишь его, ихневмона!