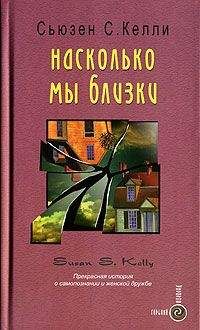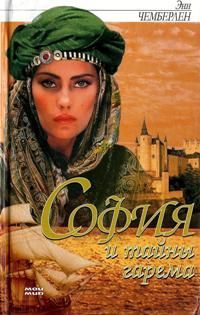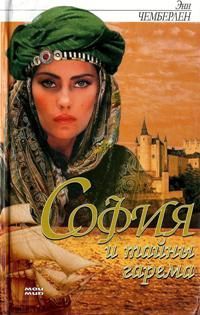— И как невеста, — сказала Есмихан, ложась на подушки и с облегчением вздыхая, — я тоже этому радуюсь.
К сожалению, она отдыхала недолго. Раздался звон колокола, который сообщал о конце отдыха. Пора было снова отправляться в путь. Есмихан позволила мне взять ее за руку, чтобы помочь ей подняться. Я усадил ее в седан, закрыл занавески и подал сигнал носильщикам, что они могут поднимать носилки. Я шел рядом с носилками несколько сот шагов, все еще держа свою руку на решетке. Но мои мысли блуждали очень далеко.
Моя первая и единственная встреча с пашой Соколли всплыла в моей памяти. Я прокручивал ее в голове снова и снова, но не мог вспомнить еще какие-нибудь детали, которые бы могли развеять страхи Есмихан. И все же вспомнил кое-что.
…В тот день я сидел среди тюков с тканями и коробок с приправами, купленными для свадьбы. Среди них был один подарок, который заставлял меня еще меньше гордиться отведенной мне ролью. И я тоже был похож на один из этих подарков и не мог произнести слова «мой господин», не чувствуя горечи за свою судьбу.
Потом паша Соколли вошел в комнату. Чернокожий Али, который делал все покупки к свадьбе в соответствии со своим вкусом, не учитывал вкус молодой девушки. Он обратил внимание господина на кошель с деньгами, потому что именно тот должен был принять конечное решение.
Конечно, у паши Соколли были и свои дела, и поэтому он хотел побыстрее вернуться к ним. «Хорошо, хорошо, Али», — сказал он, обрывая разъяснения и извинения, чтобы побыстрее отделаться от всего этого.
Затем его соколиный взгляд обратился ко мне. Я поклонился как меня учили, но сделал это натянуто, чтобы обратить внимание на то, как это его правительство может допускать торговлю людьми.
— Это евнух, которого вы заказывали, — сказал Али с усмешкой.
— Я вижу.
— Прекрасный евнух. Я хорошо заплатил за него.
— Прекрасно, Али. Очень хорошая работа.
Когда Соколли произносил эти слова, ему понадобилось откашляться. Он заметно побледнел, пока я не опустил глаза, чтобы не видеть его замешательство. Он не спросил моего имени и не поинтересовался, знаю ли я свое дело, с которым в действительности я был знаком довольно плохо. Он просто пристально смотрел на меня минуту или две, как будто пытался что-то вспомнить. Когда ему это удалось, он снова стал таким же, как прежде. Быстро взглянув на меня еще раз, он повернулся и вышел из комнаты. На одно мгновение я решил, что он решил не покупать меня, а снова отправить на рынок рабов…
И сейчас, следуя рядом с носилками Есмихан и держась за решетку, я на мгновение снова почувствовал тот страх, который испытал тогда. Я ничего не сказал своей госпоже, конечно, потому что и сам не мог понять: что бы это могло значить?
— Его мать? О, Абдула, у паши Соколли есть мать? Почему ты не рассказал мне об этом прежде? — Печаль и страх в ее голосе были такими же, как будто она узнала, что вся Османская империя вдруг развалилась. И я знал, что виноват в этом.
На нашей остановке в Иноне я узнал, что этот город на окраине огромного плато был одним из маленьких владений паши. Маленькая лавка снабжала бедняков дважды в день хлебом и козьим молоком. Есмихан настояла на том, чтобы я посетил ее. Она дала мне свое серебряное ожерелье, чтобы я пожертвовал его и затем сразу же вернулся и рассказал ей в деталях, что я видел и слышал там.
Вначале я подумал, что это довольно глупое задание, но к тому времени, когда вернулся с докладом, я изменил свое мнение. Я был поражен трудностью данного поручения, если выполнять его честно и добросовестно. Как объяснить абрикосовый цвет, заполняющий базар маленького города в полдень, человеку, который никогда не видел свет за пределами гарема? Как описать бедность человеку, у которого самый бедный раб ест гораздо больше и носит парчовую одежду?
Мне было очень трудно подобрать слова так, чтобы она меня поняла, и поэтому, описывая городских патронесс, я сказал: «У нее было такое же загорелое лицо, как у матери господина».
У меня не было злого умысла в том, что я раньше не упомянул, что у господина есть мать. Она была такой неприметной, что я даже не вспомнил о ней, когда рассказывал про пашу Соколли. Теперь все мысли о городке были моей госпожой забыты. Она могла думать только о своей свекрови. Мне пришлось успокаивать ее. Я пытался объяснить ей, что не упоминал ее раньше, так как она не представляет для нее никакой угрозы.
— Мать моего господина маленькая, похожая на мышонка женщина, и вряд ли она когда-нибудь сможет теперь ходить. Поэтому она никогда, ни днем, ни ночью, не покидает своего дивана в самой большой комнате гарема. Однако ее зрение и пальцы в полном порядке, и поэтому целый день она проводит за вышивкой, с самого рассвета до заката. Ее вышивки прекрасные, сложные. Она вышивает цветы и птиц, которых я никогда не видел в реальной жизни.
— Это звучит слишком идеализированно, — прервала меня Есмихан.
— Анафема набожным мусульманам, возможно, но я подозреваю, что такой рисунок обычное дело для Боснии, откуда господин родом. Конечно, ей не хватает религиозного образования, но я не могу судить ее по этим рисункам. Я не разговаривал с ней о ее работах. Я вообще не мог с ней разговаривать, потому что за двадцать лет, которые она живет в Турции со своим сыном, она не выучила ни одного турецкого слова. Единственное ее общение — это разговоры с сыном, когда он навещает ее. Он делает это не потому, что особенно сильно любит свою мать, а потому, что это тоже его обязанность. Я подозреваю, что бормотание, которым она меня приветствовала, было непонятно не только из-за того, что оно звучало на незнакомом языке, но и потому, что от старости она уже не может четко произносить слова. Хотя я и улыбнулся и наклонил голову в ответ, я был уверен, что ее жизнь в гареме Соколли была такой же одинокой, как одинокое эхо в пустых залах гарема.
«Не огорчайся, — сказала мне на это жена Али, которая чистит и готовит для этой женщины. — Скоро молодая жена наполнит этот гарем жизнью». Я вижу, что это воля Аллаха исполнить ее слова, — проговорил я, кланяясь.
Есмихан попыталась успокоиться, во-первых, потому, что я очень сильно желал этого, и, во-вторых, потому что я все же оставался ее единственным другом в этом незнакомом месте, который до сегодняшнего дня был заселен единственным человеком, матерью паши, ее будущей свекровью. И только теперь я начал понимать, что это очень трудно — начинать все сначала, закрывать глаза на ошибки и все прощать.
В тот раз я подумал, что это либо судьба, либо что-то особенное в моем характере так легко связали наши жизни, даже несмотря на такую серьезную ошибку с моей стороны. Теперь я понимаю, что это было большое усилие, напоминающее то усилие, которое испытывают рабы, пытающиеся закатить громадный валун на гору, их вены и мускулы напряжены, а их кожа покрыта потом. И это усилие исходило только от Есмихан, от ее маленьких ручек, мягких карих глаз и доброго сердца.