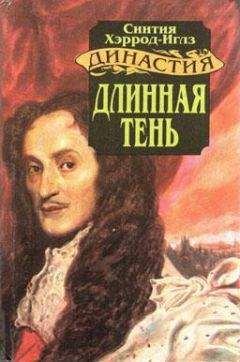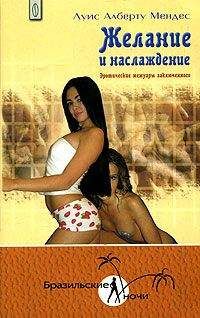Ознакомительная версия.
Браскасу вытащил из чемодана корсаж и атласную юбку цвета морской волны вместе с другой тюлевой юбкой, отделанной бесчисленными оборками.
— Гм! — промычал он пристыженно.
— Да это не мое платье! — закричала она.
— Это даже и не твой чемодан…
— Ты опять сотворил какую-то глупость.
— Ах! Пожалуйста, не дурачь меня, ты знаешь! Я сам положил сегодня в чемодан костюм для «Травиаты» и проводил артельщика до дверей театра.
— Ступай же, сойди, разузнай. Верно, привратник ошибся; вместо моего, внесли этот чемодан. Да поторопись же, Браскасу! Ведь, уже был звонок.
Он вышел, ругаясь. Вернулся скоро, ведя впереди себя костюмершу, и сказал, взволнованно, обращаясь к Глориане:
— Знаешь, это изумительно!
Костюмерша объяснила, что артельщики, действительно, внесли в театр чемодан мадемуазель Глорианы, но что потом явился лакей в ливрее, с большим сундуком. Он сказал: «Госпожа ошиблась», и унес чемодан, приказав внести немедленно сундук в будуар дебютантки.
— Какой-нибудь фарс! — воскликнул, весь бледный от гнева, Браскасу.
— Чтобы помешать мне дебютировать!
— Ты будешь дебютировать… хоть голой, если это будет необходимо.
— Беги в гостиницу. Принеси другое платье, все равно какое-нибудь. «Травиату» можно играть и в современных костюмах.
— А время? Разве у меня есть время? Слышишь: три удара. Начинается увертюра, а ты играешь в первом акте!
Глориана, полунагая, сжала кулаки, гневно сверкая глазами и закусив губу; а он, ходя взад и вперед, передвигал стулья, вертел пальцами правой руки, страшно щурил глаза, открывал рот, обнажая десны, и вообще, походил на обезьяну, готовую укусить.
Театральный гарсон пробежал по коридорам, крича: «На сцену, дамы!»
Занавес подняли; нужно было, чтобы Травиата, с несколько растрепанными волосами от смеха и вина, появилась среди восхищенных гостей и спела заздравные куплеты, поднимая золотой кубок!
Костюмерша предложила сходить в магазин костюмов и поискать там между прочим хламом чего-либо подходящего… Какие-то обноски? Для Глорианы? Браскасу просто готов был задушить костюмершу за эти слова.
Раздались звуки хоровой песни. Второй режиссер полуотворил дверь: «Сударыня, вам выходить!» и быстро скрылся.
— Я пропала! — воскликнула Глориани.
— Проклятье! — вскричал Браскасу, разбивая кулаком какую-то безделушку на камине.
Хоровая песня усиливалась. Это была прелюдия, последний аккорд которой служит репликою, при входе Травиаты. Сам директор, маленький старичок, ворвался в ложу.
— Ну, что же случилось? Вы с ума сошли? Вы пропустите свой выход!
— У меня украли чемодан! Велите переменить имя на афише.
— Нет! — закричал Браскасу.
Он схватил шелковое платье цвета морской волны и тюлевый шлейф, набросил его на Глориану, выталкивая ее в коридор, одел ее на ходу, пришпилил обе юбки, пока она возилась с рукавами, сложил буфами оборки уже на лестнице кулис, толкнул ее еще раз, не успев даже стянуть корсажа и закричал: «Ты точно голая — будешь восхитительна!» и, вслед за новым толчком, она очутилась на сцене.
Потом он почти упал на стоявший тут стул и отдувался, как бык.
Она, очутившись на сцене, подбежала к столу, подняла золотой кубок и, выделывая руладу, уловила ноту скрипки, брошенную ей оркестром, точно птичка, вцепившаяся в листок, уносимый ветром.
Вся растрепанная, с распустившимися волосами, с обнаженным телом, ослепительно белым, при полном освещении, она походила на знойную вакханку; ослепленная внезапностью своего выхода, смущенная сознанием того, что на нее смотрят тысячи безумно горящих глаз — она почувствовала себя до последней степени опьяневшей; она набросилась на музыку, как кидаются в пламя, в ужасе, растерянно, восхищенно, с необычайной силой в голосе и с обнаженной красотой!
В зале на минуту водворилась тишина, вероятно, от изумления; потом — как только Глориана закончила последнюю руладу, раздался взрыв рукоплесканий — восторженных, бешенных, не прерывающихся рукоплесканий; — а Браскасу, сидя на стуле, изнемогал от восторга, повторяя:
— Дорогое сокровище!
Кто-то положил ему руку на плечо; то был директор.
— Замечательно хороша! — сказал он. — Не признающая традиций, но прелестная.
— Я это знаю! — вскричал Браскасу.
— Верный успех. Это правда, но игра опасна.
— Какая игра?
— Успех и, в то же время, скандал. Авансцена недовольна. Маршал хмурил брови и кусал усы с таким видом, который не обещает ничего хорошего. Черт возьми! Я завишу от него; он министр изящных искусств. Правда, что графиня Солнова смеялась до упаду.
— А! Да, — сказал Браскасу. — По поводу дурно стянутого корсажа. Что же делать! Это не наша вина.
— Дело идет не о корсаже, но обо всем туалете, вообще. О! Вы очень смелы. Пусть так, но это безобразие.
— Я не понимаю, — сказал Браскасу.
— Вы отлично понимаете. Ведь, вы заметили, что Глориана походит…
— На кого же?
— Вот невинность! На королеву, черт возьми! И вы сказали себе: «Воспользуемся случаем». Я вас не порицаю; билеты будут легко распродаваться. Однако, вы зашли слишком далеко. Не нужно было того, чтобы Глориана была одета, именно так, как королева, третьего дня, на балу в Помпейском доме.
Браскасу изумленно взглянул на него широко раскрытыми глазами. Очевидно, изумление его было искренно. Директор подал ему газету, указав пальцем на одно место статьи. Браскасу прочел:
«На ее величестве было надето бледно-зеленое морского цвета атласное платье без рукавов, короткая юбка, которая была подхвачена в нескольких местах гирляндами морских растений…»
Он уронил газету.
— Бог мой! — вскричал он, — что все это значит?
Браскасу, парикмахер мадемуазель Глорианы Глориани, имел свою историю, которую стоит рассказать.
Однажды, вечером, капрал тулузского гарнизона — это было уже давно — прогуливался вдоль канала, невдалеке от статуи Рик е .
Там в городе, на площади Капитолия, барабан пробил сбор. Капрал продолжал свою прогулку, с чувством удовлетворения; он заручился позволением отлучиться до десяти часов; при том же, он ожидал мадемуазель Миону, хорошенькую служанку, родом баску, которая обещала выйти к нему, когда улягутся спать господа.
Она пришла. Маленькая, худенькая, сухая, с жесткой кожей, усиками и темным родимым пятном в углу рта, точно мавританка, под красным фуляром, словом, она была то, что называется: пикантная брюнетка. Он, с глупым и радостным лицом, она, почти некрасивая, они обожали друг друга, что бы там ни говорили; ведь, потребность любви пристраивается туда, куда может. Когда они уселись — капрал на каменной скамейке, Mионa — на его коленях, она вдруг с живостью обернулась и сказала:
Ознакомительная версия.