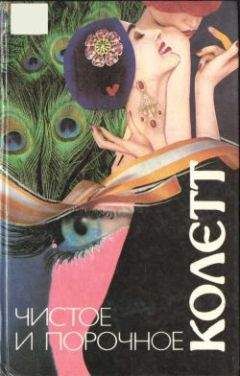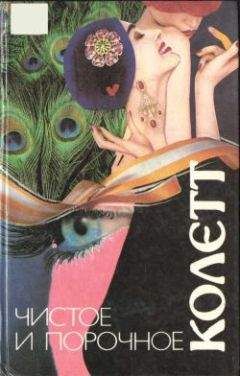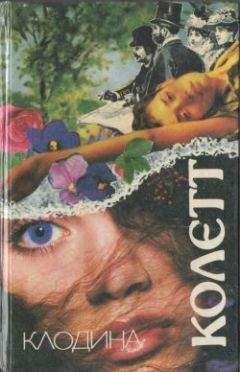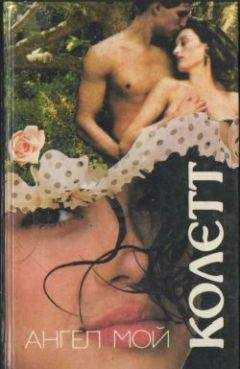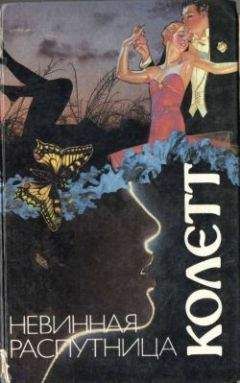Она со смутной неприязнью отвернулась от этого непроницаемого лица, изуродованного неестественной позой, вздохнула и подумала, как бы всё подытоживая и объясняя: «В сущности, мне никогда не нравилась эта бородка на испанский манер, которую он отпустил».
Лёгкими шагами подошла она к стеклянной двери в сад. Ей было скучно, и она не испытывала благодарности к Мишелю за эту неожиданную передышку среди мучительной тревоги, за возможность подумать. «Подумать о чём? Перед тем как сделать глупость, не раздумывают, думать начинают после…»
Ей показалось, что по спине, между лопатками, стекает капля тёплой воды, она сильно вздрогнула и обернулась. Мишель проснулся и смотрел на неё. Он так мало походил на сморённого сном беднягу, что ей стало страшно и захотелось дать отпор.
– В чём дело? – глухо спросила она. – Что ты на меня так смотришь?
От звука её голоса Мишель снова сделался живым и беспокойным; он встал с видимым сожалением.
– Я уснул… – сказал он, проводя ладонями по лицу. – Представь себе, я забыл…
Этот извиняющийся тон не понравился Алисе, и она перебила мужа:
– А я не забыла. Я ждала тебя. Мы собирались пойти гулять.
– Да… Гулять?
– В Сен-Мекс, ты же знаешь.
Он выпрямился, метнул угрожающий взгляд в невидимых соглядатаев, притаившихся за жасмином и пурпурной сиренью:
– В Сен-Мекс?.. Отлично, иду.
Два часа спустя Мишель и Алиса в полном изнеможении поднимались по склону холма, вершину которого венчал Крансак. После утомительной прогулки у них не было сил обменяться даже словечком, и обоим было ясно, что всю энергию они потратили в посёлке и дальше, в деревушке под названием Сен-Мекс.
Алиса вспоминала, как перед мостиком, соединявшим аллею Крансака с просёлочной дорогой, Мишель взял жену под руку, чтобы предстать перед деревенскими зеваками дружной парой. Но разве жители Крансака, когда дело касалось «имения», не обладали звериным чутьём и орлиным зрением?
«Они заметили, что я не переменил ботинок, облепленных засохшей грязью, – думал Мишель, – а аптекарша предложила Алисе васильковой воды – для покрасневших век… Страшные люди…» Алиса с дрожью негодования вспомнила, как у Эспанья Мишель обнял её за талию, сжал ей руку… Потом они пошли в Сен-Мекс по залитой солнцем тропинке, повторявшей изгибы полноводной реки, окаймлённой нарциссами и синей вероникой, озарённой белым сиянием боярышника в живых изгородях по обеим сторонам, откуда то и дело перелетали друг к другу зимородки и алые снегири. За рекой на плодородной красной земле располагались знаменитые на всю округу виноградники, однако лучшее вино давали те, что были повыше, на каменистых склонах. Заботливо ухоженные крансакские виноградники, где на возделанных грядках между рядами лоз приютился лук и густые побеги фасоли, каждый год вдохновляли Мишеля на банальные речи об изобилии и на широкие взмахи рук, обнимавших горизонт.
«В этом году он помалкивает», – подумала Алиса со злостью, о которой тут же пожалела.
– Гляди-ка, на лозах уже листья! – воскликнула она, желая вызвать у мужа ежегодный приступ воодушевления.
Но он лишь выпустил руку Алисы и вдруг стал чопорным: в его лице достоинство оскорблённого мужа оттенялось предусмотрительным благодушием… «Бездарный комедиант, как все мужчины», – ворчала она себе под нос, с трудом взбираясь на вершину холма, к Крансаку, массивному и приземистому родовому гнезду, словно слепленному из одних только черепичных крыш и невысоких тяжеловесных башен – непочтительному воображению Алисы он представился похожим на толстяка в нахлобученной до бровей шляпе.
Оба разом остановились, чтобы перевести дух. Обычно Алиса оказывалась выносливее, да и ленивее мужа: когда склон делался круче, она берегла силы, а тщеславный Мишель шёл словно на штурм крепости, легко, почти бегом, хотя и бледный, с гулко бьющимся сердцем – и всё ради удовольствия победно крикнуть Алисе своё всегдашнее: «Ну что?», когда она доберётся к нему. Сегодня их снедала одна и та же тревога, и у подножия Крансака, на лиловых, покрытых расселинами скалах, откуда по капле сочилась вода подземного источника, они перевели дух и устремились друг к другу.
– Ты не очень устала? – спросил Мишель.
Она отрицательно покачала головой, затем стала собирать по расселинам завитки папоротника, едва поднявшиеся из земли, выросшие в тени барвинки, бледно-сиреневые, точно снятое молоко, и розовые цветочки пострела, хрупкие и неприятно пахнущие.
– А он красив в этот час, – заметила Алиса, указывая вверх на Крансак.
– Да, – вяло откликнулся Мишель.
И они отправились дальше, шаг в шаг. «Что меня ждёт наверху?» – думала Алиса, идя за Мишелем, шагавшим с непокрытой головой. Оба чувствовали себя разбитыми: с утра не отдохнули, не привели себя в порядок, и оба взмокли под шерстяной одеждой.
На вершине холма, где тени от сиреневых кустов легли длинными полосами, Алиса перед самым домом перешла на свой обычный быстрый шаг, но у порога её порыв прервал возглас: «Куда ты так торопишься?» Она слегка повернула голову, коснувшись подбородком плеча:
– Как куда – пить! Я чуть не умерла от жажды там, в низине.
– Ты могла попить в деревне.
– Лимонаду с мухами или может кислого сидра? Нет уж, спасибо… Я велю принести тебе на террасу воды или, если хочешь, сидра. Больше у нас ничего нет, коли не считать затхлого вина, смородиновки и ещё бутылки портвейна. Завтра…
Внезапно она умолкла, увидев перед собой незримую цель, но Мишель не обратил на это внимания.
– Пожалуй, сидра, если не затруднит… Ты выйдешь на террасу?
– Да… нет… Не сразу. Платье прилипло к спине воротник жакета трет шею, я уже больше не могу…
Она закончила фразу нетерпеливым жестом и исчезла за аркой двери. Он проводил Алису жадным взглядом словно желая отнять её у полутьмы сводчатого коридора, ведущего на кухню, затем уселся на каменную скамью, прислонился к стене и стал смотреть, как наступает вечер, безветренный, зелёный и нежный, так похожий на сумерки в Провансе. «Всё-таки чувствуется, что юг недалеко отсюда…»
Соловей, ближайший из тех, что днём и ночью изливали гармонию возле своих наполнившихся гнёзд, перекрыл все остальные голоса, и Мишель принялся прилежно следить за рисунком певучей арабески, ждать повторения одинаковых долгих нот, усиливавших одна другую. Он различал «тц-тц-тц», которые сравнил со звяканьем колец, скользящих по медному карнизу, «коти-коти», повторявшиеся до двадцати раз кряду, без остановки и на одном дыхании… Он не испытывал особого удовольствия, но, соразмеряя своё дыхание с длительностью неизбывной песни, довёл себя почти до удушья: это мешало ему думать, и он уже не испытывал ничего, кроме жажды.