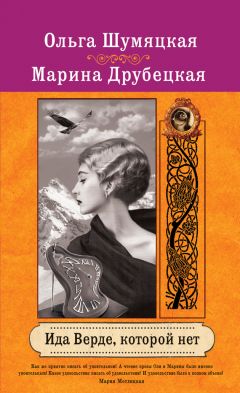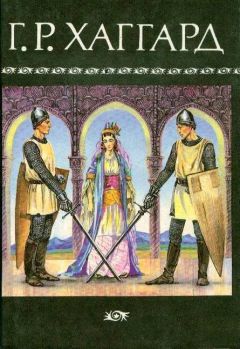И Ведерникова согласилась исполнить роль посредника: Анатольев был известен тем, что имел особое чутье на успешные, как он выражался, проекты.
Рунича Ведерникова увидела издалека — он сидел на улице, за тем самым столиком, где накануне его застала Зиночка. Сидел, опершись обеими руками на трость. Лицо его было сумрачно. Бархатный пиджак цвета темной терракоты оттенял и утемнял дикие желтые глаза, делая их еще сумрачнее.
Ведерникова остановилась в отдалении и, оставаясь незамеченной, быстро вытащила из сумки пудреницу и карандашик губной помады. Проведя пуховкой по щекам и мазнув помадой губы, она откинула назад голову с шлемом тяжелых темных волос, еще не посеребренных сединой, чуть опустила веки и скользящим шагом подошла к Руничу.
Он встал.
Публика за соседними столиками в едином порыве повернула к ним головы.
Ведерниковой показалось, что над столиками прошелестел странный шепоток. Кто-то хихикнул. Кто-то вроде бы сказал: «Вон, взгляни». Вроде бы… Или действительно сказал?
Она нервно оглянулась. Головы разом повернулись в другую сторону. Да что это они? Может быть, пятно на юбке? Петля на чулке поползла?
Ведерникова одернула юбку, поправила волосы, спиной чувствуя любопытные взгляды. Ощущение было гадкое. Словно она голой стоит посреди Петровки. Захотелось немедленно вытащить зеркальце.
Подняв брови, она вопросительно обернулась к Руничу.
Тот взял ее руку, поцеловал и пододвинул к ней плетеное кресло.
Принесли кофе.
Рунич предложил сигарету. Он курил «Филипп Моррис» с золотым обрезом.
Она снова потянулась было к волосам, но только дотронулась слегка до мочки уха, усилием воли опустила руку и взяла сигарету.
— …два режиссера, Пальмин и Лозинский… вы, вероятно, слышали… сюрреалистическая драма… сюжет о времени, пожирающем людей… ваша тема… полная свобода… скорее художественная фантазия, нежели сценарий… — Она говорила быстро, нервно, запинаясь, проглатывая слова, и сама чувствовала свою нервозность. — Вы не знаете, почему на меня так смотрят? — неожиданно выпалила она.
Рунич медленно затянулся. Он думал о нахальной девчонке, вчера напросившейся к нему домой, о том, что у ее мамаши такие же прозрачные глаза, но не ускользающие, не изменчивые, а твердые, острые, как ледяные осколки. И еще о том, что девчонка непроста. Ох непроста.
Холеной рукой, на безымянном пальце которой красовался перстень из оникса с вырезанной головой египетской кошки, Рунич пододвинул к Ведерниковой номер «Московских ведомостей», открытый на центральном развороте.
Ведерникова опустила глаза. На скулах ее мгновенно вспыхнули два красных пятна. Такие же пятна покрыли полную шею.
Она схватила газетный лист и поднесла к глазам.
Несколько мгновений сидела молча, неподвижно, загородив лицо газетой, потом уронила лист на пол и громко выдохнула:
— Мерзавка!
Она резко встала, опрокинув кресло, но пошатнулась и схватилась за грудь.
Рунич удержал Ведерникову, усадил на свое место и махнул официанту, чтобы принес воды.
— Успокойтесь, милая Юлия Михайловна, — приговаривал Рунич, поднося воду Ведерниковой. — Ваше предложение мы еще обсудим. Оно заманчиво, весьма заманчиво, но — позже, позже. Позвольте и мне кое-что вам предложить… — Он умолк, и усмешка тронула его губы. А ведь и правда мерзавка! Стреляются из-за нее — поди ж ты! Еще явится ввечеру, как давеча, со своими глазами-каплями. Устроит, не дай бог, сцену. Втянет в историю. С такой-то станется. Он слегка пожал руку Ведерниковой. — Зинаида Владимировна — барышня прекрасная. И не возражайте! — воскликнул он, почувствовав, как дернулась рука Ведерниковой. — Прекрасная, но несколько самовольная, излишне самостоятельная. Во избежание скандала — да-да, милая Юлия Михайловна, скандал весьма возможен, и вы сами это понимаете! — во избежание скандала я советую вам отправить Зинаиду Владимировну к отцу. Он ведь, кажется, на раскопках сейчас? — Ведерникова кивнула. — Вот и хорошо. Вам получше?
Ведерникова поднялась — на сей раз медленно, осторожно, — попрощалась с Руничем и с несколько замороженным видом, зажав в руке газету, под перекрестным обстрелом взглядов праздной публики двинулась вверх по Петровке к бульварам.
По дороге она ни о чем не думала, внутренне отгораживаясь от чудовищной истории, молниеносно ставшей публичным достоянием, только приговаривала тихонько: «Эх, Владимир Иванович! Владимир Иванович!» — словно обвиняла в чем-то мужа.
Но, вернувшись домой, переступив порог квартиры, Юлия Михайловна мгновенно зажглась гневом.
Быстрым шагом Ведерникова прошла в кабинет мужа.
Зиночка, валявшаяся на диване, при виде матери встала.
— Мерзавка! Полюбуйся! — крикнула Ведерникова, швыряя дочери газету.
Алые пятна цвели на ее скулах и шее.
Зиночка сделала шаг назад, и газетный лист упал перед ней на ковер.
— Что вы имеете в виду, маман? — холодно спросила она, с брезгливой гримаской перешагивая через лист.
— Что я имею в виду?! Твоего… как его… Шустрика! — Взгляд Ведерниковой упал на диван, где лежал еще один номер «Московских ведомостей». — Я вижу, ты в курсе дела! Доигралась? Вся Москва уже знает! От меня сегодня люди отворачивались! А об отце ты подумала? О том, как на нем отразится этот скандал?
— Чем же я виновата? — еще холоднее осведомилась Зиночка.
— Девушка всегда виновата! Играла, давала надежду, морочила голову! Я всю жизнь твержу тебе, что следует быть осмотрительной!
— Ваша логика, маман, сильно хромает. Вот если бы я вчера пришла к нему на квартиру… А что вы так удивляетесь? Он этого хотел. По-вашему, я должна была исполнять все его желания? Вот тогда действительно был бы скандал! Вот тогда я была бы мерзавкой! Еще, не ровен час, он и меня подстрелил бы. Он же сумасшедший. Пошел бы палить по углам. Вы этого хотели?
Ведерникова окаменела.
Девчонка… Девчонка… дрянь, но — черт возьми! — права. И Рунич прав. Надо ее отослать от греха подальше.
— Собирайся, — выдавила Ведерникова. — Поедешь к отцу.
— Но экзамены, маман!
— Экзамены сдашь осенью, — отрезала та и вышла из кабинета, хлопнув дверью.
Поджидая карету автобуса, который должен был довезти его до Сокольников, Рунич брезгливо рассматривал стайку воробьев. Те заполошно кружили вокруг хлебных крошек, сброшенных со стола нерадивым официантом, наскакивали друг на друга, егозливо озирались — и все совершенно одинаковые, будто копии, сделанные сумасшедшим художником.