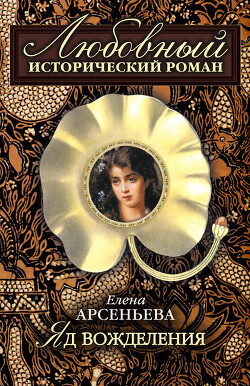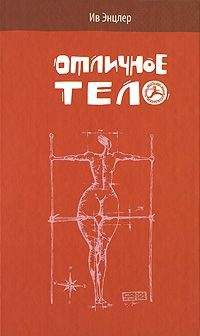– Прости, сестра! – совсем близко, над самым ухом, торопливо прозвучал шепот Алексашки – верно, не погнушался он склониться перед несчастной умирающей. – Прости, прощай, не поминай лихом! Уповай на бога!
Зазвенели шпоры, затопали кони, и вновь на Алену навалилась тьма.
Безнадежно. Безнадежно. Нет спасения!
Уповай на бога, сказал ее мимолетный заступник.
На бога! Уже уповала. В ту ночь, когда Никодим с Фролкою поочередно поганили ее тело. И когда воззвала она к господу, Никодим, спохватившись, задернул пеленою образ, и Алена поняла, что пропала, пропала совсем. Так оно и вышло.
Всякому мертвому, говорят, земля – гроб. Вот она и в гробу…
А еще говорят, над каждой могилой Свят Дух. Неужто и здесь он?
Алена воздела полуослепшие глаза к небесам, силясь хоть что-то разглядеть, но не увидела ничего, кроме клубящейся тьмы.
Ночь… Ночь приближения смерти.
* * *
Верно, она уснула, а может, впала в забытье, обмиранье, во время которого душа покидает тело и странствует по свету, только почудилось Алене, будто стоит она в батюшкином дворике и глядит на сарай. На крышу его вечером, при заходе солнца, всегда прилетали журавли. Самец поджимал одну красную лапку и трещал несколько минут своим красным носом.
«Журавли богу молятся, – послышался ласковый батюшкин голос. – Пора ужинать. Собери на стол, Аленушка, да гляди платья не замарай! Больно хорошо на тебе платье!»
Алена опускает глаза – и в изумлении ахает. Не то слово – хорошо на ней платье! Белое, белоснежное, и так же искрится все, как снег под солнцем морозною порой.
Откуда оно? Отродясь у Алены этакой красоты не было! И мыслимо ли дело войти в этом ослепительном одеянии в их закопченную летнюю кухоньку? Нет, надо немедля снять платье, переодеться. Алена пытается отыскать пуговки или иные какие застежки, но пальцы не слушаются. И вдруг исчезает все: и журавли, и заросший травою дворик, и теплый вечер. Остается только эта суровая, снежная, холодная белизна, от которой никак не может Алена избавиться.
«И не избавишься! – злорадно хохочет Ульянища. – Это саван. Тебя в нем на жальник-то и сволокут!» – «Нет, не саван, – твердо говорит отец. – Надевать на себя во сне что-то белое – это знак, предвещающий освобождение от ложного обвинения, оправдание оклеветанной невинности!»
«Сон! Так это сон! Я еще жива!»
Алена открыла глаза – и тут же сильно зажмурилась, надеясь вновь услышать голос отца, хотя бы дальний озык… [28] но совсем другие голоса звучали теперь над ее головой. Один, до тошноты знакомый, принадлежал караульному, другой голос был женский и до того мягкий, ласковый, что онемелые губы казнимой чуть заметно дрогнули в блаженной улыбке.
– Да неужто за нее никто и словечка не замолвил?!
– Не замолвил, матушка. Не было за нее ничьего упросу – только наветы и оговоры.
– А ведь она спасала свою жизнь…
– Вам-то, матушка, сие почем знать?
– Уж я-то знаю, служивый, уж я-то знаю! Поэтому и пришла сюда: чтобы спасти от смерти безвинную, которую к гибели побоями да зверствами привел богоданный супруг!
Оцепенение, владевшее Аленою, враз схлынуло. Она открыла глаза и увидела над собою две тени: долговязая, трясущаяся – это караульный. Другая… Сквозь набежавшие слезы Алена с трудом различала фигуру высокой статной женщины в монашеской одежде. Свет месяца, прорвавшийся сквозь набегавшие тучи, блеснул на пяти крестах, вышитых на куколе – черном покрывале схимницы.
– Ты, матушка, к чему речь ведешь, не пойму я, – дрожащим голосом пробормотал солдат. – Вот те крест святой, не пойму!
– Все ты, сын мой, понимаешь, – ласково, но непреклонно отозвалась схимница. – Понимаешь, что сейчас сию страдалицу из ямы выроешь и мне отдашь.
Hесколько мгновений солдат только рот беззвучно приоткрывал, не в силах переварить услышанное, потом проблеял чуть слышно:
– Н-не дам! Без приказа не дам! Взмилуйся и помилуй, матушка, я тоже жить хочу!
– Вот приказ, – достав из широкого рукава, монахиня протянула ему бумагу. – Приказ самого князя-кесаря Федора Андреича Ромодановского на то, чтоб отдал ты мне скверную женку, душегубицу Алену, и быть ей постриженной, а буде она волею не пострижется, то неволею ее постригут!
– В монастырь, стало быть, – пробормотал солдат. – Ну что ж, лучше живой в черной рясе, чем неживой в белом саване! – И махнул рукою товарищу, боязливо маячившему поодаль: – Неси заступ, Никола! Отрывать ямину будем.
– Что, померла наконец? – обрадовался тот, поспешая со всех ног. – Отмучились мы, стало быть?
– Отмучились, отмучились, – махнул на него первый солдат. – Ты, Никола, лучше заткнись, не то я тебя так отмучаю… А ты, девонька, прости, коли невзначай зацеплю лопатою. Не больно-то сноровок, хотя немало, ох, немало вашей сестры отрыл! Когда сам помру, у меня в том свете знакомиц много окажется, кому здесь услужал.
Темная фигура близко склонилась к Алене, и лунный луч вновь заиграл на пяти крестах.
– Не бойся, дочка, – ласково сказала монахиня. – Я пришла тебя домой забрать.
3. Послушание келейное
Алена вылила последнее ведро в бочку и с наслаждением разжала руки. Бадейки деревянно загрохотали по полу, и нерадивая работница вздрогнула.
У нее даже не было сил поднять бадейку. Умотный денек выдался! Как, впрочем, и всякий другой. Сперва, вставши далеко затемно, она колола дрова – готовить завтрак, потом чистила котлы после этого завтрака. А пока наносишь полной эту бочку, руки отвалятся! Уже отвалились, можно сказать.
Она с трудом разминала пальцы, окоченевшие, вспухшие от ледяной воды. Для трапезы воду велено было носить только из ключа под горою, хотя водовозы исправно доставляли бочками обычную, речную. Но сестра Еротиада, трапезница, была непреклонна: только ключевую! И носить воду предписывалось келейнице Алене. Только ей. Изо дня в день. Не менее двадцати раз спускаясь под крутую гору и вползая на нее, причем с двумя тяжеленными деревянными бадейками, из которых чуть не половина воды просачивалась да выплескивалась. Ноги у Алены всегда были ледяные и мокры насквозь, и ей иногда казалось, что залубеневшие чулки (она ходила в одних чулках, без обуви) вот-вот примерзнут к полу. Диво, что она не простудилась еще до смерти. Но спасала летняя теплынь, к тому же, верно, ничто теперь не охладит ее сильнее того смертного холода, который она непрестанно ощущала полтора суток, пока не спустился с небес светлый ангел и не только душу ее освободил, но и тело избавил от мучительной смерти.
Алена подняла глаза, истово перекрестилась. Но икона тотчас расплылась, и слезы медленно, устало потекли по исхудалым щекам.
Ангел осенил землю своим чудотворным крылом, да и вновь вознесся к небесам! Не прошло и двух недель после Аленина спасения – она с трудом стала приходить в себя после жесточайшей горячки, – как матушка Мария, спасительница ее, избавительница, вдруг сама занемогла и на другой же день преставилась, едва успев сподобиться перед кончиною принять Святые Тайны от ангелов, явившихся за нею. И еще матушка Мария успела открыть Алене тайну ее чудесного спасения.
– Никому не говорила, а тебе скажу, – бормотала она едва слышно. – Я ведь не родилась матушкой-игуменьей, нет, не родилась! Жила я когда-то в миру, звалась честной вдовой купеческой, и была у меня дочь – цветик ненаглядный, Дунечка. Скромно жили мы, а все ж наследство мужнино мало-помалу расточилось, и когда присватался за Дунечку богатый человек, я только обрадовалась и благословила ее. Что ж, что был он много старше, зато умнее, добрее, думала я. Нет, ошиблась… Не знали мы с доченькой, да узнали вскорости, что был он человек злорадный, мздоимствующий, а пуще всего – пьянствующий. Укоренилась в нем сатанинская злоба безмерного хмельного упивания. Разум его помутился. В его-то года не плотоугодия устраивать, но о спасении души своей попечительствовать должно! Однако же и души в нем тоже не было. Заведомо ждал он от Дунечки всего худого и злого, и не было ей пощады от его кулаков. Ко мне редко он дочку отпускал, я чуяла неладное, а перечить не осмеливалась. Дунечка меня, бывало, просит: «Забери меня домой, матушка! Страшно мне!» – а мне и самой страшно против ее хозяина пойти. Вот и наказал меня бог за трусость, за безропотность… Однажды привиделся мне сон, будто снова я молодая, вдобавок – чреватая. Мужа моего дома нет, а я будто бы уж совсем на сносях. И вот в полночь рождается у меня ребенок… Нет, не Дунечка – мальчик. Спеленала я его, положила к себе на колени и вижу: у ребеночка глаза лютые, смотрит он на меня так, будто съесть хочет! Испугалась я, положила ребенка в зыбку, а сама на печь улезла. И вдруг… выскочил ребенок из зыбки, и не ребенок это вовсе, а муж дочери моей, и тоже лезет на печь и говорит: «Настал и твой час, напьюсь я твоей кровушки!»