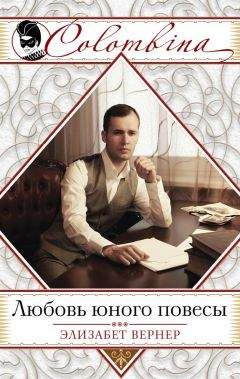– Сразу же, генерал!
Эгон взял бумаги, простился с генералом, поспешил к себе на квартиру, приказал оседлать лошадь и пять минут спустя уже ехал на Церковную гору.
Церковная гора, прозванная так немцами потому, что на ней стояла небольшая церковка, представляла лишь небольшой, частично покрытый лесом холм, служивший крайним выступом тянувшихся здесь гор. Здесь проходила граница расположения немецких войск, и в разбросанных у подножия холма усадьбах был размещен седьмой полк, служба в котором по справедливости должна была считаться самой тяжелой и опасной.
Полуразрушенная войной церковь, занесенная глубоким снегом, была пустой. Стены и крыша еще держались, но часть потолка обрушилась, а в разбитые окна со свистом врывался ветер. Сзади подымался засыпанный снегом лес. Все это смутно вырисовывалось при тусклом свете полумесяца, который только что выглянул из-за тяжело нависших туч и освещал окрестности своим призрачным сиянием, иногда вновь скрываясь за тучами.
Была такая же морозная ночь, как тогда, в Родеке, и опять, как тогда, темно-пурпурный свет разливался на горизонте; но это было не северное сияние, таинственное и полное красоты. Зарево, пылавшее на севере, свидетельствовало о сражениях; это горели деревни и усадьбы, подожженные бомбардировкой. Пожары, страшные спутники войны, окрашивали горизонт своим отблеском.
Здесь с ружьем в руках на посту стоял одинокий часовой – Гартмут фон Фалькенрид. Его глаза были устремлены на пылающий горизонт, где тяжелые массы облаков казались кровавыми и из-за дыма, стлавшегося по земле, временами вылетали снопы ярких искр. Мороз все крепчал, и его ледяное дыхание до мозга костей пробирало одинокого часового. Правда, не он один нес такую тяжелую службу, но его товарищи не были изнежены многолетним пребыванием на Востоке и в залитой солнцем Сицилии. С тех пор как Гартмут повзрослел, он ни разу не видел северной зимы; для него теперешний холод был гибельным.
К нему медленно подкрадывалась слабость, от которой тело наливалось свинцом, а веки тяжело опускались на глаза. Он знал, что будет за этим, но напрасно старался ободриться, двигаться; на минуту ему удавалось стряхнуть с себя оцепенение, но затем снова наступал упадок сил. Неужели ему не было суждено даже погибнуть от пули врага?
Взгляд Гартмута, как будто ища помощи, обратился на полуразрушенный храм. Но что значили для него церковь, алтарь? Он давно ни во что не верил. Смерть он считал преддверием вечной ночи, а жизнь, если бы удалось искупить свою вину, могла бы еще дать ему все – обладание любимой женщиной, славу поэта, может быть, даже примирение с отцом. Ничему этому не суждено было сбыться, он должен был до конца оставаться на своем посту, ожидая бесславной смерти, незаметно подползавшей к нему из ледяного мрака. Этого требовал долг.
Вдруг на расстоянии послышались шаги и голоса; они постепенно приближались и заставили Гартмута очнуться от оцепенения, которое уже начало овладевать его мозгом. Он напряг всю силу воли, чтобы приободриться, и приготовился выстрелить, но подходившие оказались своими. Что это могло значить? Время смены еще не наступило. Однако через несколько минут перед ним стояли унтер-офицер и новый часовой.
– Смена по приказанию, привезенному офицером из главного штаба! – объяснили ему, и место Гартмута занял коренастый солдат, которому мороз был, казалось, нипочем.
Гартмут хотел присоединиться к унтер-офицеру, как вдруг с другой стороны из темноты вышел сам офицер с приказом о его смене.
– Пусть унтер-офицер идет вперед, Танер, мне надо поговорить с вами. Следуйте за мной!
Они пошли. Не желая сделать часового свидетелем их разговора, принц вошел в часовню, а за ним и Гартмут. Бледный свет луны, падавший через окно, осветил внутренность храма со следами разрушения: часть скамеек была поломана обрушившимся потолком, только алтарь в нише оставался невредим.
Дойдя до середины, Эгон остановился и обернулся:
– Гартмут!
– Господин поручик!
– Брось это, мы одни. Не думал я, что мы так с тобой свидимся!
– И я надеялся, что судьба избавит меня от этого, – глухо ответил Гартмут. – Ты пришел…
– Из главного штаба. Мне сказали, что ты стоишь на посту на Церковной горе; это ужасная служба в такую ночь, как сегодня!
Гартмут молчал. Он знал, что без вмешательства Эгона это была бы его последняя ночь. Эгон смотрел на него с беспокойством. Несмотря на слабое освещение, он видел, до чего промерз и изнурен человек, который стоял перед ним, прислонившись к колонне, точно стоять без опоры был уже не в силах.
– Я пришел, чтобы передать тебе поручение, от которого, конечно, ты можешь и отказаться, если захочешь, – снова заговорил принц. – Дело считается почти невозможным, и для кого-нибудь другого оно, пожалуй, и действительно невозможно, но я знаю, что у тебя хватит мужества. Вопрос только в том, хватит ли у тебя силы при таком истощении.
– Если я отдохну с четверть часа да обогреюсь, силы вернутся. В чем дело?
– В том, чтобы, рискуя жизнью, пробраться через горы; ты должен передать известия в Р., проехав через посты неприятеля.
– В Р.? – воскликнул Гартмут, вздрагивая. – Ведь там стоит…
– Генерал Фалькенрид со своей бригадой. Он погибнет, если не получит известие вовремя; мы поручаем его спасение его сыну.
Гартмут встрепенулся. Исчезли оцепенение и изнеможение; в лихорадочном возбуждении он схватил принца за руку:
– Я должен спасти отца? Я? Каким образом? Что я должен сделать?
– Слушай! Пленный, о котором ты принес мне рапорт, рассказал о готовящемся предательстве. Крепость хотят взорвать после сдачи, как только гарнизон выйдет из нее, а наши войдут. Генерал уже послал связных разными дорогами, но они дойдут слишком поздно, так как посланы длинными окружными путями. Твой отец намерен вступить в крепость завтра же. Надо предупредить его обо всем, а это возможно лишь в том случае, если связной проедет прямо через горы, занятые неприятелем; тогда он может быть на месте завтра до полудня, но зато эта дорога…
– Я знаю ее, – перебил Гартмут. – Направляясь сюда, мой полк прошел ее две недели тому назад. Тогда проходы в горах были еще свободны.
– Тем лучше. Разумеется, ты снимешь мундир, потому что он может выдать тебя.
– Я поменяю только шинель и фуражку; если меня задержат, я все равно погибну. Если бы только достать хорошую, выносливую лошадь.
– Лошадь готова, со мной мой арабский жеребец Сади. Ты его знаешь и не раз ездил на нем, он летит как птица и сегодня ночью покажет, на что способен.
Разговор велся с лихорадочной торопливостью. Принц вынул бумаги, полученные из главного штаба.