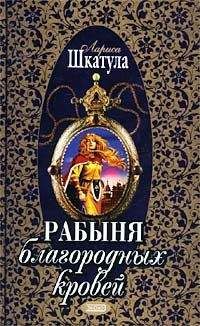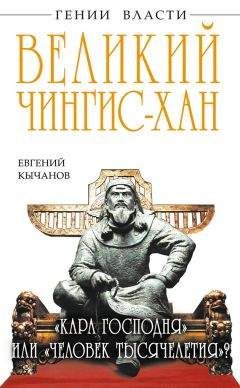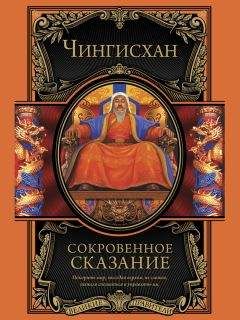На бледном осунувшемся лице её зеленые глаза выделялись особенно ярко. Джурмагуну на мгновение стало жалко — ведь это он изнуряет её своими ласками, но поднявшееся при одном упоминании об этом желание начисто унесло остатки жалости.
Особенно возбуждали монгола её отчаянные попытки бороться с собой, со своей собственной природой. Он-то знал, насколько бесплодны такие попытки, но ей ещё предстояло это узнать. А он уже достаточно изучил её тело, чтобы ломать — не силой, а поцелуями и прикосновениями, её сопротивление и в который раз завоевывать, утопая в волнах блаженства. И от своей победы, и от того, как она стонет и бьется в его руках будто пойманная в сети рыбка…
— Я смотрел в последний раз на твой город, — сказал он, утолив очередной и, похоже, вечный голод по её телу.
— Почему — в последний раз? — вяло поинтересовалась она.
— Потому, что завтра я отдам приказ джигитам идти на его штурм, мстительно уточнил он, подметив искорку страха в её испуганно раскрывшихся глазах. — Они сравняют Лебедянь с землей!
— Нет! — вскрикнула она, будто просыпаясь, и оттолкнула его. — Нет!
И зарыдала. Теперь настал черед Джурмагуна побледнеть. Он и не ожидал, что его так глубоко заденет её горе. Кажется, он даже растерялся и забыл, что именно так, по его мыслям, она должна была откликнуться на такие слова.
Он приподнял её подбородок и заставил посмотреть в свои глаза.
— От тебя зависит, сделаю я это или нет.
— Я должна умереть? — спросила она, и он чуть не засмеялся её готовности пожертвовать собой. Каким она ещё была ребенком!
Но он не должен был улыбаться, а тем более отступать от задуманного.
— Если захочешь, я подарю тебе твой город.
— Мне — город? — опять не поняла она.
— Поклянись, что ты не сбежишь от меня, и я отведу войска от Лебедяни.
Она забыла о том, что обнажена, хотя до сих пор всегда противилась, когда он отбрасывал одеяло и без устали любовался ею. Тогда Анастасия закрывала глаза, как будто ей невыносимо было само зрелище плескавшейся в его глазах страсти. Она встала на лежанке перед ним на колени и спросила:
— Это правда?
— Правда.
Он не обманывал её, потому что принял решение оставить Лебедянь. Осада этого ничтожного городка не прибавляла ему славы, лишь задерживала войска среди просторов этой дикой неуступчивой Руси.
Его ждала Мунганская степь, куда Бату-хан собирал свои застрявшие в лесах и болотах урусов войска.
— Клянусь, не сбегу! — сказала она не колеблясь; он с уважением ждал, когда перед тем она несколько мгновений молчала, словно прощалась со всем, что было ей дорого.
Джурмагун позвал Бавлаша и приказал ему собрать всех бин-баши в юрте его помощника. Он собирался объявить им решение — с рассветом отправляться в путь.
Джурмагун усмехнулся, представив себе радостные лица своих военачальников — надвигающаяся урусская зима их пугала, и они не хотели задерживаться в этой неприветливой земле.
А ещё Джурмагун позвал к себе Ганджу. Этот пронырливый джигит отличался острым умом, знал несколько языков, в том числе и язык урусов, отчего его чаще держали в толмачах.
Воевода объяснил, что ему нужно, и Ганджа в знак повиновения склонил голову, хотя Джурмагун мог поклясться, что в его глазах мелькнула насмешливая искорка.
А всего-то Гандже приказали раздобыть теплую дорожную одежду для женщины. Конечно, самую лучшую. Ну и что там женщине положено. Из исподнего…
Глава пятьдесят восьмая. Не знаешь, где найдешь
Теперь, когда Прозора увидела всю глубину и искренность горя Аваджи, она больше не могла относиться к нему как к врагу.
А ещё она подумала, что со временем многое утратила из того, чему её учил мудрый монах Агапит. Уж он-то, наверное, не позволял себе судить других так, как это делает его ученица. Не стала ли ты обычной глупой бабой, Прозора?
Теперь она разговаривала с Аваджи на его языке, но он этого даже не заметил.
— Как ты думаешь отыскать Анастасию? — допытывалась она.
— Я знаю, где она может быть, — скупо пояснял он.
— Но тебе одному не справиться!
— Трудно будет, — согласился он.
— Подожди, вернется из Лебедяни Лоза… мой муж. Он что-нибудь придумает.
— Я уже сам придумал.
На самом деле Аваджи третий день метался, точно зверь по клетке, но кроме уверенности, что Ана в шатре великого багадура, ничего на ум не шло. Знахарка права: в одиночку к шатру Джурмагуна не добраться. Он думал теперь о себе, не как о его нукере, а как о вражеском лазутчике, который должен не только дойти до цели, но и вернуться обратно с желанной добычей.
Ночь не принесла ему избавления от душевных мук, и Аваджи решил: если назавтра ничего не изменится, он пойдет к Джурмагуну один. А если застанет в его объятиях Ану? Вынужден будет убить, пусть даже после этого убьют самого Аваджи.
Наверное, поэтому он проспал рассвет, с которым всегда прежде просыпался, потому что не мог уснуть всю ночь и забылся лишь к утру сном, сплошь состоящим из кошмаров. Виделась ему плачущая Ана, похотливое лицо Джурмагуна, которого в жизни он видел только бесстрастным, лишенных каких бы то ни было чувств.
А разбудила его, как ни странно, Прозора.
— Лоза приехал!
Лоза? Ее муж? Из осажденного города? Последний вопрос из зароившихся в голове он произнес вслух:
— На чем приехал?
— На коне, — подивилась она его непонятливости, но тут же, вспомнив, нахмурилась: кому радость, а кому — горе. — Монголы-то ушли!
— Куда ушли? — не поверил он, по-кошачьи легко спрыгнув с лежанки. Не взяв города?
— Лестницы приготовили, ров землей засыпали, а штурмовать так и не стали, — объяснил по-русски стоявший в дверях Лоза, и Аваджи понял его.
— Это Анастасия сделала, — сказал он Лозе.
Тот вопросительно посмотрел на жену: мол, не двинулся ли умом парень? Прозора пожала плечами. Но Аваджи не обращал внимания на их переглядывания.
— Она уговорила Джурмагуна, — продолжал разговаривать он будто сам с собой. — А может, он сам предложил ей город в обмен на то, что она останется с ним…
— Город в обмен на женщину? — не поверил Лоза.
— Я бы ей всю землю предложил, — без улыбки сказал Аваджи, и Лоза не смог ему возразить.
— Лоза хочет тебе помочь, — сказала Прозора.
Аваджи покачал головой и сказал со свойственной ему прямотой:
— Ты стар, Лоза, а мне нужен молодой напарник.
— Ему всего сорок пять лет! — вступилась за мужа Прозора.
— Для жизни мало, для моего дела много, — заупрямился Аваджи.
Взгляд Лозы заискрился смехом.