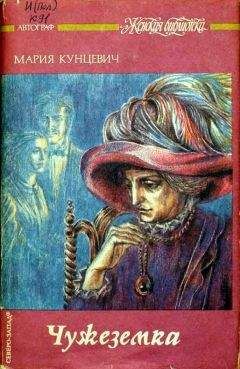— Тэк, тэк. Ну и как ты себя чувствуешь?
Этого было достаточно, — мигом испарилось очарование первой минуты, и Роза, полностью отдаваясь владевшему ею раздражению, фыркнула:
— Как я могу себя чувствовать! В моих-то условиях. Человек на старости лет скитается по чужим людям, а свои даже не поинтересуются, что с ним, каково ему… Не замечают. Вот и доченька! Приходишь — а она и не думает ждать тебя.
— Ах, так вы с Мартой условились, значит, она сейчас придет, — заулыбался Адам.
— Ничего это не значит, решительно ничего. Только то, что ляпнула она там что-то, а думала в это время о другом. А ты чего от нее хочешь?
— Да нет, я просто хотел узнать, здоровы ли они.
— Ах, так тебя интересует не только пани Квятковская! — торжествующе воскликнула Роза.
Адам поморщился.
— Ну зачем это, Эля, милая. Она славная женщина, почему ты вечно к ней придираешься? Вот еще сегодня утром она говорила, что такого варенья, как у тебя, чтобы и цвет сохраняло, и вкус, и не плесневело, и не засахаривалось, она в жизни своей не видывала.
— Ах, много чести! А что она вообще видела, эта твоя пани Квятковская, на своей Пивной и Мокотовской? Смотрите, какой он нежный становится, когда надо заступиться за пани Квятковскую! «Эля, милая»… Когда буду умирать, ты так, наверное, не скажешь?
— Господи! Ты просто невозможна. Зачем тебе умирать? Слава богу, сегодня ты прекрасно выглядишь, вон какие щеки румяные.
— Это ничего не значит. Когда мой отец лежал в гробу, у него тоже были румяные щеки.
— Ах, да перестань ты, Эля…
— Эля, Эля… — передразнила его Роза.
И начала повторять это имя, преувеличенно торжественным тоном, всякий раз с новым оттенком насмешки.
Эва, Eveline, — так решила назвать ее Луиза для поддержания престижа. Роза хорошо помнила этот день.
Была осень, воскресенье, они с теткой отправились на обязательную воскресную прогулку в Лазенки — через площадь Варецкого, по Шпитальной, по Брацкой, Аллеями… По булыжной мостовой тарахтели дрожки и кабриолеты. Экипажи были заполнены дамами и девочками в шумящих крахмалом, атласных и шерстяных, с жестким ворсом, нарядах. Мужчины, в цилиндрах и котелках, ютились на передних сиденьях.
Временами в мерный гул процессии экипажей врывался цокот копыт, — по мостовой, огибая медлительные фиакры, фаэтоны и ландо, проносилась, звеня упряжью, легкая коляска с парой рысаков — хвосты трубой, на шеях хомуты, — с кучером в стеганой поддевке. Городовые на углах вытягивались в струнку, а прохожие провожали сидевшую в коляске генеральшу или полицмейстершу взглядами, полными ненависти и страха. Тетка сжимала губы сердечком и, глядя прямо перед собой, цедила сквозь зубы:
— Не глазей по сторонам, Rosalie, не надо отвлекаться.
Однако Rosalie с восторгом и тоской следила за весело мчавшимися рысаками, пока упряжка не исчезала из виду.
Так дошли они до Лазенок, а в парке сразу направились к Круглой башне, где торговали пряниками. Tante была в свисавшей с плеч, подбитой атласом плюшевой мантилье цвета маренго. Из-под платья выглядывало кружевце, окаймлявшее панталоны и нижнюю юбку. Вся она шумела, как соломенное чучело, да еще поскрипывали прюнелевые башмаки.
Роза искоса поглядывала на tante и вдруг почувствовала, что у нее подрагивают щеки, еще секунда, и она расхохочется самым неприличным образом. Ко всему тетка выступала такими мелкими шажками и с таким важным выражением на лице… Роза знала, что не удержится от смеха, ей это никогда не удавалось, не удастся и теперь, тетка взбеленится, начнет допытываться, объяснить ей причину невозможно… Что оставалось делать? Пиная каблучками камешки, осыпая гравий, Роза понеслась, полетела с горки, в забитую гуляющими аллею.
Tante пришла в ужас. Она не могла понять, что это нашло на ее племянницу. Пробежала несколько шагов и в растерянности стала кричать: «Рузя, Рузя, дитя мое, что с тобой?» Вот тогда-то это и случилось — в понимании тетки Людвики нечто постыдное и непростительное, причинившее столько боли.
Прогуливавшиеся по аллее люди, видя бегущую девочку, поворачивали головы, ловили глазами развевающиеся по ветру черные как смоль косы, слышали отчаянные крики: «Рузя, Рузя», — и забеспокоились. Как? В воскресенье? В эти часы, в Лазенках? Там, где встречается вся элегантная Варшава, весь высший свет, мечется и толкает примерных католиков черноволосая Рузя?
— Ройзе, Ройзе! Стой, не то штанишки потеряешь. — Толстяк с золотым брелоком на цепочке решил, по-видимому, обратить дело в шутку. Однако другие прохожие не склонны были спускать возмутительнице общественного спокойствия. Раздались голоса:
— Вон до чего дошло! Даже в Лазенках и то нет спасения от пархатых. А на Налевки[18] не угодно ли? В сад Красинских? Еще не отслужили позднюю обедню, а тут Ройза своими патлами трясет!
Люди останавливались, кто-то гаркнул:
— Поймать и передать околоточному, пусть отведет в участок! Это беззаконие — жидам здесь нельзя.
Какой-то поручик, — с шиком волоча за собой саблю, повисшую на темляке, он как раз шарил глазами в стайке девиц и был рад случаю, который мог бы его сблизить с этими неприступными поляками, — подбежал к Розе, загородил ей дорогу и схватил ее. Роза, совершенно не сознававшая последствия своей эскапады и отклика на «Рузю», даже не пыталась вырываться, когда почувствовала мужские руки на своих плечах. Веселое лицо поручика казалось знакомым, от парня веяло Таганрогом, духами Юли, чем-то совсем нестрашным. Она доверчиво смотрела смеющимися глазами прямо ему в глаза. Поручик смешался.
— Да разве это еврейка, — пробормотал он, поглядывая на толпившихся вокруг возмущенных мужчин.
Но уже появилась tante Louise в скрипучих прюнелевых башмаках. Она пылала гневом; зонтиком с длинной тонкой ручкой она стукнула поручика по плечу и закричала:
— Немедленно отпустите эту девочку! Что это значит, скажите на милость? Il у a encore des juges a Varsovie[19] Я найду на вас управу! Как же так, господа, — tante властным взором обвела окружающих, — московский солдафон нападает на польского ребенка, а вы молчите? Неужели уж до такой степени оподлилась Польша в неволе?
Поручик отпустил Розу и быстро отошел, бормоча:
— Ехидные полячишки, сам черт ногу с вами сломит…
Роза мяла в руках носовой платочек. Тетка прижимала ее к себе.
— Идем, детка, и не отходи от меня. Польская девушка сегодня не может рассчитывать на честь своих соотечественников.
Сконфуженная публика поспешила разойтись, один лишь толстяк с брелоком, вначале настроенный соглашательски, огрызнулся: