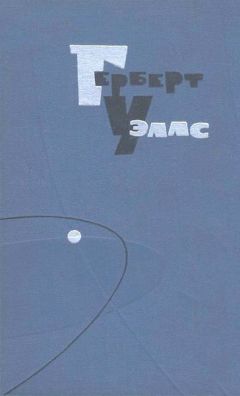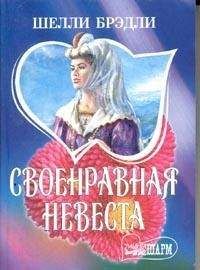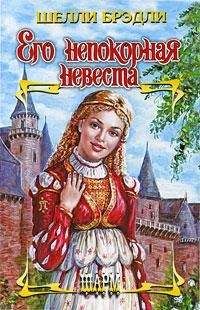в актовом зале: «У нас по статистике на сто человек должно быть двое-трое больных. А вы мне подали восемьдесят три справки об освобождении. Я не врач, разобраться, кто есть кто, не могу, так что на картошку едут все. А тех, кто действительно болен‚ мы отчислим по состоянию здоровья».
— Ну, при таких условиях явка будет стопроцентной!
Марика потрепала Пряницкого по плечу:
— Ладно, мне на следующей выходить. Позвони мне, хорошо?
— Позвоню, позвоню.
— Кто это? — спросил Алекс, когда она вышла из вагона.
Жека перевел на него затуманенный взгляд.
— Девчонка из моей группы, Марика Седых. Симпатичная, правда?
— Угу.
Иногда Алекс смотрел на людей и невольно сравнивал их с чем-нибудь: Бобби был похож на сдобное тесто, Жека — на москита… А вот Марика оставляла после себя привкус тонкой восточной пряности. Черный кофе, яркое солнце, смуглые щиколотки в золотых браслетах — что-то в этом роде.
— У вас с ней роман? — спросил Алекс Жеку.
Пряницкий трепетно вздохнул:
— Ну, в какой-то степени… Я на первом курсе предложил ей со мной переспать, а она меня послала. Вот с тех пор и дружим. Договорились с горя пожениться, если нам совсем не повезет в личной жизни.
Кажется, девушка была свободной. Что ж, отлично!
— А что такое «картошка»? — осведомился Алекс.
— Это наш народный обычай, — с гордостью пояснил Жека. — Каждую осень все городское население снимается с насиженных мест и отправляется в деревни собирать урожай: капусту, морковку, кормовую свеклу… Все вместе называется «ехать на картошку».
— Вам за это платят большие деньги?
— Не-е. Знаешь, что такое барщина? Вот это то же самое. Едут все: от школьников до профессоров.
— А что в это время делают ваши фермеры? Почему они не убирают свои урожаи?
— Потому что это не их урожаи, а государственные. И государству намного выгоднее пригнать на уборку дармовую рабочую силу из городов. Оно же знает, что отказаться никто не посмеет.
В высоких залах переговорного пункта гудела разноязыкая толпа: студенты, командировочные, туристы…
— Мама! — орал Алекс в телефонную трубку. — Это твой блудный сын! Что значит «какой»? Мама, у тебя завелись другие сыновья, пока меня не было дома?
— Боже мой! Сынок! А я думала, что из России нельзя до нас дозвониться. Как ты?
— Все нормально.
Но простых заверений о благополучии маме не хватило.
— Скажи мне правду: чем ты питаешься?
— Супом-харчо, супом «Вермишелевым» и супом «С мясом» из пакетиков.
— А это здорóво?
— Нисколечки! Но это едят почти все советские студенты. При этом они умудряются учиться, хлестать водку в диких количествах и подрабатывать на разгрузке вагонов.
— А стираешь где? Там у вас есть прачечные?
— Я выучился стирать руками! — похвастался Алекс. — Это совсем просто: замачиваешь все на три дня, ждешь, пока подтухнет, а потом начинаешь отстирывать и от тухлятины и от грязи.
— Не болтай! — рассердилась мама. — Алекс, ты должен покупать нормальные продукты. Тебе нужны витамины! Ведь должны же у коммунистов быть овощи и фрукты!
— Мама, они есть. Но они продаются на рынке. Там все в два-три раза дороже, чем в магазинах.
— У тебя нет денег?
— Я богат, как дедушка до Великой депрессии. Нам дают огромную стипендию — в несколько раз больше, чем русским студентам.
— За что?
— За то, что мы иностранцы. Это, знаешь ли, большое жизненное достижение.
— Ваше время истекло, — вдруг вклинился в разговор металлический голос. — Заканчивайте разговор.
— Как там Хесус? — торопливо спросил Алекс. — Он к тебе заходил?
— Заходил. Велел тебе привет передать. Представляешь, его сестра Моника собралась замуж за этого долговязого парня из Хантингтон-Бич. Потом тебе звонила Эми…
— Мама, скажи ей, что меня съел русский медведь.
— Она мне не поверит!
— Тогда скажи, что меня арестовали и отправили на сибирские рудники.
Маминого ответа Алекс не услышал — их разъединили.
— Ну что, поболтал с домом-то? — спросил Жека, когда Алекс вышел из кабинки.
— Поболтал.
Действительно, это было что-то удивительное: дозвониться из Москвы до дома, услышать мамин голос… И дело было не в чудовищном расстоянии. Дело было в том, что здесь, в России, у Алекса началась совсем другая жизнь, и звонок домой значил что-то вроде звонка в прошлое.
— Я становлюсь сентиментален, — сказал Алекс. — Сейчас я улыбаюсь, заслышав звуки родины, а завтра, глядишь, начну писать стихи.
— Это тебе женской ласки не хватает, — сразу определил Пряницкий. — Со мной тоже иногда так бывает.
Алекс вспомнил встреченную в метро девушку. Пожалуй, Жека был прав.
Алексу повезло, и он застал Ховарда на месте: тот как раз допечатывал какую-то очередную статью. Кураторская работа не была для него основной: большую часть времени он занимался тем, что писал репортажи для «Лос-Анджелес трибьюн».
Как всегда в комнате Ховарда царил творческий беспорядок: по углам лежали груды справочников и кипы газет, на стене висели большие карты СССР и США. Больше всего Алексу нравились папки, куда тот складывал свои статьи. На каждой из них имелась ироническая пометка: «Клеветнический вымысел», «Антисоветские пасквили», «Намеренные искажения».
Алекс всегда удивлялся тому, как Ховард относился к Советскому Союзу: у него было множество русских друзей, он знал Москву как свои пять пальцев, понимал и чувствовал загадочную русскую душу… Но при всем при этом Ховард убежденно ненавидел советскую власть и все, что с нею связано.
Такое двойственное отношение к этой стране Алекс встречал впервые. Как правило, все иностранцы, живущие в СССР, делились на две категории: ворчливых недоброжелателей и восторженных туристов. Первые, в основном посольские работники, терпеть не могли Советский Союз и страстно жаждали перевода в Европу: мол, тут скучно — нет хороших ресторанов, нет ночной жизни, нет круглосуточных магазинов… Вторые, наоборот, сходили с ума от музеев, церквей и тому подобной экзотики. А вот людей, действительно знающих русских и трезво глядящих правде в глаза, были единицы.
— Чего хочешь? — спросил Ховард, когда Алекс появился у него в дверях. При этом его пишущая машинка ни на секунду не прекращала греметь.
Алекс прошел в комнату и, убрав с дивана переполненную пепельницу, сел.
— Ховард, а я мог бы поехать с русскими студентами на уборку картошки?
Стук пишущей машинки оборвался.
— Зачем тебе это?