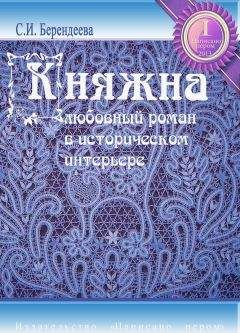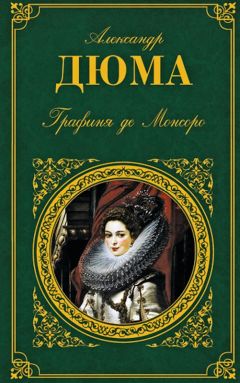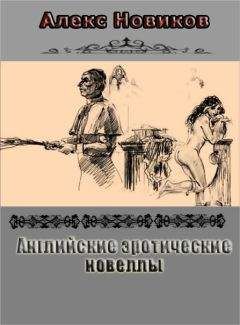Херефорд посмотрел с тоской на высокие стрельчатые окна; до рассвета было еще далеко. Ему бы следовало заняться молитвами и раздумьем, но голова занята другим. Как человек может возноситься мыслями к небесам, когда у него отнимаются ноги? Святые это, видимо, могут, но он не святой. Потом, зачем ему вымаливать позволение стать хорошим рыцарем? Он и так хороший рыцарь, лучше большинства других. Не чета Генриху и Честеру! Как может рыцарь следовать путем чести, когда кругом такое… Нет, он не станет винить других и больше не будет раздумывать об этом, пока язык не выдал его ненароком.
С наступлением утра пришли священники, отслужили мессу и освободили молодых людей от бдения. Сама церемония посвящения только начиналась. Сначала дали им поесть, потом все отправились на поле турниров с помостом, обтянутым королевским пурпуром. Там, на виду у всех король Дэвид ударом меча посвятил Генриха в рыцари. Херефорд посмотрел на небо и вздохнул с облегчением: день обещал быть ясным, значит, все будет хорошо. Удар рыцарского посвящения был нешуточным: Херефорд приготовился к тому, что слетит от удара с помоста, и мечтал только не угодить в грязь. Это его миновало; на помосте он удержался, но потом долго в голове стоял гул, а когда вечером разделся, то обнаружил гигантский синяк под ухом и на плече, куда угодил железный кулак Дэвида. Он слышал как Генрих смеялся, когда Роджер тряс головой и брел, шатаясь, чтобы встать рядом со своим господином, пока Дэвид давал рыцарское крещение пятнадцати другим молодым людям.
— Тебе надо набрать веса, Роджер. Ты же почти лишился чувств, — шептал ему Генрих.
Сам он выдержал удар Дэвида как скала, и хотя король несомненно умерил свой удар по племяннику, выдержать его не качнувшись — было настоящим праздником силы.
— Как мне набрать вес, если вы не даете времени ни есть, ни спать? — в тон ему ответил Херефорд, тихо смеясь. — После возвращения в Англию я похудел на целых тридцать фунтов.
— Это не из-за моих дел, — сказал Генрих сухо, и можно было подумать, что говорит он вполне серьезно. — Это из-за твоего распутства.
— Тогда вы — бесплотный дух.
Генрих въехал ему локтем под ребра.
— Советую быть почтительнее. Разве так надо разговаривать с человеком, кому ты сейчас будешь присягать на верность?
— Я лишь пытаюсь уберечь вас от смертного греха гордыни. Вы должны благодарить меня за мои старания на ваше благо.
— Тише ты, сумасшедший, все смотрят на нас! Хорошенький путь моего спасения! Уберегаешь от адских мук за гордыню и посылаешь на них же за распутство.
— Это потому, что вас люблю. Хоть туда мы пойдем рука об руку.
— Похоже что так, только тебе отправляться туда за одно, а мне за то и за другое. Значит, надо шествовать в ад с достоинством.
— Какое достоинство может быть от гордыни? Если вы шествуете за гордыней, а вес быка не позволяет вам легко вскочить в седло, вот где будет смех, а гордыня сделает сцену еще забавнее.
Генрих фыркнул. Тут был намек на его неумение вскочить на коня, не касаясь стремян. К этому испытанию рыцаря он долго и безуспешно готовился…
Церемония шла к завершению. Дэвид сошел вниз, уступив место племяннику. Когда Генрих встал на небольшое возвышение перед теми, кто присягал ему сегодня на верность, его глаза уже не смеялись, а молодое лицо стало суровым. Подвижный рот вытянулся в твердую линию, волевой подбородок выдался вперед; Генрих собрался, чтобы любой из стоящих перед ним рыцарей проникся каждой буквой своей присяги ему. Восшествие на престол было для него делом и смыслом всей жизни. Такая устремленность придавала его личности огромную силу; при его появлении на большое скопление людей, собравшихся на принесение присяги, опустилась мертвая тишина.
Херефорд, как самый важный, первым вышел вперед, преклонил колено и протянул обнаженные руки своему повелителю. Генрих крепко сжал их своей железной рукой, две пары глаз, голубых и серых, встретились суровым и открытым взглядом.
— Сир, я присягаю вам верой и жизнью своей, устами и руками, клянусь и обещаю хранить вам преданность и верность против всех других и всеми своими силами оберегать ваши права.
— Мы обещаем тебе, Роджер из Херефорда, что мы и наследники наши будем оберегать земли твои и дарованные нами тебе и наследникам твоим от всякого посягательства всей нашей властью, дабы тебе владеть этими землями в мире и покое.
Генрих медленно наклонился и поцеловал крепко Херефорда в губы. Когда он распрямился, Херефорд встал на ноги, и они расцепили руки. Тут подошел епископ Кармислейский и поднес Роджеру величественную раку со святыми мощами. На всех сторонах пирамидальной крышки золотые барельефы изображали Благовещение, Крещение, Распятие и Вознесение Христа. На стенках — другие сцены земной жизни Сына Божьего. Вся святохранительница была украшена полированными самоцветами, сапфирами, изумрудами, она блестела и сверкала в ярком свете весеннего солнца. Херефорд возложил на нее руки.
— Во имя святой Троицы и с благоверием к сим святым мощам я, Роджер из Херефорда, клянусь, что буду верен своей присяге и навсегда сохраню преданность Генриху, законному королю Англии, моему повелителю! Епископ отступил, вперед снова вышел Генрих. Он еще раз поцеловал Херефорда и вручил ему боевую перчатку из крашенной в пурпур кожи, спинка которой была покрыта толстыми пластинами блестящего золота.
— Носи с честью. Защищенный ею, стойко бейся за мое дело!
С горящими глазами Херефорд натянул рукавицу на правую руку и сжал кулак.
— За Генриха! За Англию! — громко крикнул он, потрясая сияющим кулаком.
— Файт! Файт! — громыхнула толпа собравшихся дворян. — Да будет так!
Большие пышные облака недвижно висели в ослепительно голубом небе. Не было ветерка колыхнуть эти белые громады высоко в небе или шевельнуть листком на деревьях в парке замка Херефорд. Просвеченная солнечными бликами тень и сидящая в ней на траве прелестная женщина тоже не шевелились, и можно было подумать, что эта сцена изображена на полотне. Но вот рука Элизабет двинулась, свернула верхнюю часть пергамента и развернула нижнюю. Шуршание свитка нарушило полнейшую полуденную тишину так же резко, как контрастно выделялось оранжевое платье Элизабет на зеленой траве и на фоне темного ствола дерева, к которому она прислонилась, но Элизабет ничего этого не видела и не слышала. Все ее внимание было поглощено письмом, читаемым с таким вниманием, что приходилось по нескольку раз возвращаться и перечитывать снова.
Дочитав до конца, подняла голову, но тут же принялась читать все сначала. Письмо составлялось впопыхах, местами писать его было неудобно, Роджер, видимо, отрывал на него время от своего короткого отдыха. Первая половина содержала описание церемонии посвящения в рыцари. Описание было оборвано и не возобновлено, а остальная часть писалась рукой неуверенной, на неровной и шаткой поверхности, скорее всего прямо на коленях. И тональность этой части была совсем иной. Роджер писал, что они собираются напасть на Йорк. Сам он планировал послать для этого символический отряд, лишь бы заманить Стефана на север, но, против всех ожиданий, король Дэвид выделил им значительную поддержку. Теперь Честер твердо стоит за решительное наступление, и Генрих тоже хочет показать Стефану себя и рвется в бой против короля. Если они добьются успеха, они смогут продвинуться навстречу войску из Глостершира с юга и войску Бигода, идущему из Норфолка на запад. Это выглядело красиво, но было совершенно ошибочно и противоречило стратегическому замыслу, потому что основные силы Стефана были на юго-востоке; если Стефан не будет убит или пленен, сражение на севере никакого ущерба ему не причинит. С другой стороны, опустошение северных земель нанесет серьезный удар по Генриху. Бароны на севере заняты преимущественно борьбой с шотландцами, в гражданской войне придерживаются нейтралитета. Если Генрих придет туда вместе с шотландцами и будет одерживать верх, они его возненавидят, а если потерпит поражение — будут презирать. Это и политически было ошибочно; если судить по тому, что рассказывал Роджер, захват Стефана и разорение края, вытекающие из описанных действий, не входили в планы Генриха. Захватить надо было одного Юстаса или Мод; как отец и муж, Стефан был любящим, добрым и слабохарактерным, значит, ему можно было навязать торг. Ради горячо любимых сына и жены он мог созвать съезд баронов и объявить там Генриха своим наследником или отречься от трона, если ставка будет повышена. Но его никогда не заставить пойти на это угрозами; его можно считать глупцом, но трусом он не был, не заботился о благополучии страны и разорение ее совсем его не трогало.