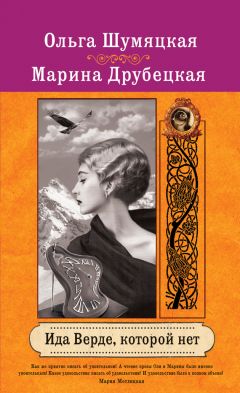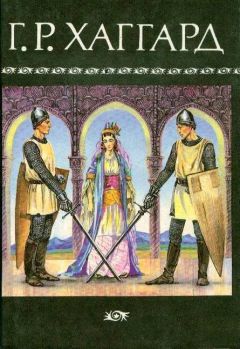Зизи застряла в съемочной толпе, ее то грубо толкали, то вежливо просили посторониться, то вдруг дали подержать какой-то баул, и она держала мешок минут десять, пока его не выхватила из ее рук деваха в черном пальто до пят.
Съемщики ничего вокруг себя не замечали, когда собирались на площадку, а вот ушлый Георгий сразу всех физиогнимировал и чужих на свои вертлявые, привязанные к веревке стулья, не пускал.
— Рувим Яковлевич, надо передать режиссеру, что у нас проблема с камерой. Простите, но съемку придется отложить до завтра, — заикающийся голос оператора выдернул Зизи из грезы.
Гесс остановился в метре от лавочки, на которую она примостилась.
— Господи, Андрей! Как некстати! — взмолился Нахимзон.
— Надо заменить шестеренку в пленкопроматывающем механизме. Хорошо еще, что у меня есть с собой деталька на замену. Режиссер уже, видимо, наверху — так что скажите ему, пожалуйста, — взвалив на себя черную громадину камеры, Гесс полез в грузовик.
Тот пыхнул черным дымом.
Съемочные заверещали.
«Значит, завтра! Завтра!» — пело заполошное сердце Зизи, выстукивая молоточками быстрый ритм.
Сделав шикарный вираж и подняв стену снежных брызг, подкатило черное авто. Из окошка выглянула божественная. К ней уже бежал ассистент.
А из дверей хинкальной появились два дородных господина в длинных шубах с корзиной алых роз — загребли руками цветы и бросили к ногам дивы. Лепестки засверкали на снегу, как разлитая в поединке кровь.
Над маленькой площадью разнесся известный на всю Россию бас:
— Несравненная! Несравненная! — гудел Шаляпин. — Были в Нальчике с гастролью и завернули к вам! Лишь руку поцеловать!
Смех! Шум! Аплодисменты! Откуда-то взялся фотограф — вспышки, вспышки!
Ида опустила ножку на ступеньку авто — и вся потянулась навстречу Шаляпину, а он, сбрасывая с плеча шубу на снег, вдруг подхватил диву на руки и запел:
— Возвысься, звезда, славу тебе пою — та-та-та…
Ида смеялась, болтала ножками, как малое дитя, а удалой бас поднимал ее все выше, выше.
— Да, Федор Иванович, не уроните! — хохотала Ида. — А впрочем, бросайте! Бросайте вот в этот сугроб!
На лицо ей падали редкие снежинки. Она летела над улыбающимися лицами, над фильмовой рухлядью, которой неустанно распоряжался милый Гесс, над прогалинами и удивленным грузином-канатчиком. И гудел голос Шаляпина, невидимым дымом уходя в горы. Ах как!..
Зизи смотрела, как Ида Верде плывет над толпой, и острое желание быть на ее месте ослепило ее, как в тот день, когда, спрятавшись за будкой охранника, она наблюдала отъезд съемочной группы со студии.
На следующий день — последний день съемок, последний эпизод! — снег будто затеял с киносъемщиками игру. То с неба сыпала колкая морось — и прекращалась так же неожиданно, как начиналась. То выглядывало на минуту солнце — и почти сразу начинали насмешливо фланировать снежинки, будто там, наверху, выпотрошили курицу. Снежинок становилось все больше, чуть не засыпало камеру — Гесс едва успел накинуть на нее плед.
Кольхен, собиравшийся уже было отправиться наверх, вдруг выскочил из любезно подведенного ему креслица и зашагал к Нахимзону.
— Рувим Яковлевич, однако, снегопад усиливается. Не опасна ли сегодняшняя съемка для группы, как вы думаете? Не отложить ли?
— Молчите, молчите! Это какая-то дурная повторяемость — опять отложить, отложить, отложить. — Нахимзон всерьез приготовился расплакаться, вытащил из кармана белый платок, вытер глаза, потом аккуратно положил на снег свой знаменитый портфель и уставился в небо, склоняя голову то к правому, то к левому плечу. — Дорогой Кольхен, вот что я скажу: надо снимать, и как можно скорее. Дальше снег все завалит, Георгий остановит канатную дорогу, и опять все застопорится. А как застопорится, так начнутся скандалы, разводы, драмы — вы не представляете, сколько мы пережили. Нет-нет, с этой фильмой надо заканчивать.
Кольхен пожал плечами, улыбнулся — и через минуту уже запрыгивал в креслице канатки и махал Нахимзону рукой в красной шерстяной перчатке.
Канатчик Георгий посмотрел ему вслед, а потом запрокинул голову, разглядывая небо, поймал на пальцы снежинки и стал перетирать их, как будто пробовал муку для лаваша.
Героиня Иды должна была появиться на льдистой вершине склона и форсировать его поперек. Камеру придумали установить в крошечном гроте чуть ниже по склону — там хватало места только для аппарата и Гесса, поэтому все остальные, включая режиссера, устроились бивуаком внизу, там, где скатерть горы утыкалась в лесок.
Снег продолжал юлить, иногда вспыхивали порывы ветра — и поднимали платья из белой пыли.
«Однако если снега будет много, эпизод выйдет отменным, — думал Кольхен, грея руки о чашечку ароматного кофе и дружелюбно оглядываясь на ощетинившиеся елки. — Особенно если он загустеет во время съемки — героиня бежит и исчезает в снежном мареве прямо в кадре!» — Кольхен даже причмокнул от удовольствия. Красота какая-то ожидается!
Верде, ее ассистентка, гримерша, костюмерша и два помощника были наверху. Под выступом скалы уже установили палатку, расставили кресла, разложили меховые покрывала, в которые теперь куталась актриса между дублями.
Костюмерша обеспокоенно пересчитывала содержимое чемодана, в котором приехали наряды: три платья для трех дублей, меховая накидка — белая, еще одна — из чернобурки и… Господи, да где же эта чертова лисья шуба? Куда она все время исчезает? Неужели украли? Да, конечно, вчера — когда появился Шаляпин и все раззявили рты! Нахимзон свернет ей шею!
И она вновь принялась перебирать одежки.
А в Ялте шел дождь — крупными теплыми каплями. Под дождем моментально таяли снежные островки на тротуарах.
Весь день Лозинский не находил себе места. Пусто. Как пусто без нее! Или без них обеих? Или — без съемок, бессмысленных, но дающих дышать: ведь весь лес осветительных приборов обращен в конечном итоге к нему. К Лексу Лозинскому.
Он шел по набережной, свернул на улицу магазинов, вошел в кафе — обжег горло каким-то напитком, не останавливаясь — и вышел через другую дверь.
На улицах как будто кого-то не хватало — будто кто-то из актеров забыл прийти на съемку, отказался от контракта. Или не хватает декораций. Вынесли без спроса? Забрали на другую фильму? Улица казалась ему брошенным павильоном с голыми стенами. В таких обычно гулким эхом отдаются случайные звуки. Было стыдно за сцену с Зизи. Чем она могла закончиться, если бы он в конце концов не остановился?
Однако поздравляю — вы, Лозинский, почти сошли с ума. Бил ее и не чуял себя. Так легко загреметь в полицию. Собственно, Зизи могла заявить на него. Но дуреха, скорее всего, убралась домой.