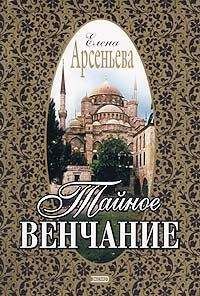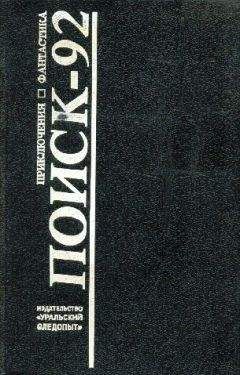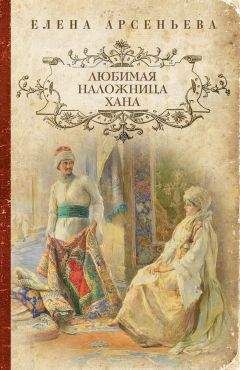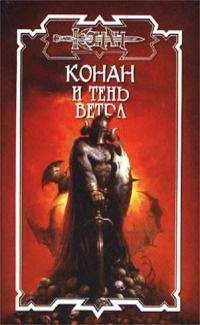Она ушиблась, дух занялся, и не сразу смогла говорить; просто лежала и ошеломленно глядела на склоненное над нею загорелое, круглое, совсем еще молодое лицо со светлыми усиками и пухлогубым ртом. На синей чалме мерцал челенк [108], придававший этим добродушным чертам отсвет суровой мужественности.
Впрочем, голубые, будто цветущий лен, глаза тоже были суровы и холодны. И все равно казалось, он только что явился с родимой российской сторонки – с Нижегородчины ли, с Московщины, с Рязанщины!..
Лиза потянулась взять его руку, пожать благодарно, но синеглазый неприязненно отстранился, буркнув:
– Арам [109].
– Нет, ты ведь русский! – изумленно произнесла Лиза, наконец-то найдя силы приподняться. – Ты ведь кричал мне по-русски…
Она не договорила, вдруг осознав, что на ней и нитки нет! Лихорадочно дернула закрученный на затылке узел, пытаясь хоть волосами закрыться.
Незнакомец побагровел так, что кровь, казалось, вот-вот брызнет из тугих щек. Но глаза словно бы серым ледком подернулись. Приподнял тонкую прядь легких Лизиных волос и произнес по-татарски с нескрываемым отвращением:
– Курдхаджа кетен-джайган!
Лиза знала, так крымчаки называют радугу. А по-русски это звучало злобно: ведьма, распустившая волосы…
Слезы вдруг хлынули от страха и горя, от обиды и одиночества. Синеглазый насупился, потом вскочил, рывком подняв Лизу с земли. Сорвал с себя доломан, накинул на нее и повел Лизу к расписным дверям гарема.
Стайка невольниц, щебечущая возле водоема, разлетелась при их появлении с криками такого ужаса, что сердце Лизы сжалось. Они словно бы увидели самого ангела смерти!
Откуда ни возьмись, приковыляла Гюлизар-ханым, воздела руки при виде полуодетой Рюкийе и рухнула на колени, не смея даже приблизиться к ней. В ее глазах метался страх. А тот, кто привел Лизу, тоже вдруг пал ниц, касаясь лбом мраморных ступеней, на которые в это мгновение ступил Сеид-Гирей.
Лиза плотнее занавесила лицо рукавом доломана, да еще и зажмурилась вдобавок, чтобы не видеть ничего вокруг. Ее била дрожь. Сейчас казалось, что уж лучше было остаться в мыльне, терпя злые укусы скорпионов, муку и боль, чем принять помощь от какого-то мужчины, предстать пред ним нагой, допустить, чтобы его руки хватали ее тело! Сейчас Сеид-Гирей взмахнет саблей, и покатятся по мраморным ступеням две повинные головы!
Нет уж. Она не станет прятаться под крыло, будто клуша. И не ее вина, что она хотела жить!
Лиза отбросила от лица рукав доломана и увидела, что Сеид-Гирей уже держит в руке саблю незнакомца, а тот стоит пред ним на коленях со скрещенными на груди руками.
– Я виновен, господин, – проговорил он покорно и совершенно спокойно. – Я осмелился поднять свой недостойный взор на принадлежащее тебе и буду счастлив принять смерть из рук твоих!
– Какая ерунда! – вскричала Лиза, бросаясь вперед.
Нелепость происходящего возмутила ее до отчаяния. То, что вытворяют над собой эти татаре, непостижимо уму!
– Да ведь он спас меня! Я звала на помощь, и он пришел. Если б не он, меня бы до смерти зажалили скорпионы. Кто-то запер двери в мыльню, я не могла выйти, а в сагане были скорпионы, они расползлись, и…
Сеид-Гирей только бровью повел, и Гюлизар-ханым, вмиг все поняв, метнулась в дом.
Лиза пыталась продолжать, но под взглядом Сеид-Гирея у нее перехватило горло. «Он нам не головы отрубит, – поняла она. – Он нас на кусочки разорвет, меня и этого бедолагу. Прямо сейчас!»
Но тут на ступеньки, словно легкая пушинка, снова вылетела толстомясая Гюлизар-ханым и бухнулась на колени.
– О господин! В хамаме Рюкийе-ханым вместилище гибели! Кто-то пустил туда не меньше трех десятков скорпионов и наглухо заложил дверь! Ее хотели убить…
– Помни, Гюрд, спасая чужую руку, сам не хватайся за змею, – чуть насмешливо произнес высокий, мягкий голос, и Лиза увидела Баграма, которого прежде не замечала, хотя он тенью стоял за спиною Сеид-Гирея. И тут же тон его стал серьезен. – Гюрд спас отраду твоего взора, о господин. Смерть Рюкийе-ханым была бы ужасна и мучительна, ибо сейчас яд скорпионов особенно страшен. Надо найти того, кто подстроил эту ловушку… – Он вдруг осекся, и Лиза, проследив за его взглядом, успела заметить, каким серым вдруг стал лоб Гюлизар-ханым под черным покрывалом.
«Что с нею?» – подумала мельком. Но тут заговорил Сеид-Гирей, и ноги у Лизы задрожали, ибо она только сейчас сообразила, что спас ее тот самый Гюрд Беязь, от которого так остерегал Баграм. Но почему у него голубые глаза?
– Благодарю тебя, брат, – произнес Сеид-Гирей. – Мне дорога жизнь этой женщины. – Он долго молчал, пытаясь справиться то ли с яростью, то ли с волнением. Все, будто окаменев, ждали, когда он заговорит вновь. – Сейчас я не могу найти слов, чтобы высказать свою признательность, но позднее призову тебя, и ты узришь ее меру. А теперь я хотел бы остаться наедине с Рюкийе-ханым. – Он подал ей руку и вдруг вскрикнул: – Что с ней?
Баграм обернулся и ахнул.
Лиза, в прозелень бледная, качалась, словно былинка на ветру, ловя руками пустоту и изо всех сил стараясь не упасть. Сеид-Гирей попытался подхватить ее, но она шатнулась от него к Баграму, уцепилась, как утопающая за соломинку, обратив к нему лицо с посиневшими губами и лбом, покрытым холодным потом. Руки ее тоже были холодны и влажны, и она вскричала сквозь слезы голосом смертельно испуганного ребенка:
– Баграм! Мне плохо, мне…
Судорога прервала ее слова. Она согнулась в припадке страшной рвоты, извергая на мраморные ступени черную смесь кофе, рахат-лукума, шербета, нуги и прочих сладостей, которыми угощалась утром.
Лицо Сеид-Гирея вмиг сделалось столь же бледным, как лицо Рюкийе, он взглянул на Баграма исполненным муки взором.
– Что это? Ее укусил скорпион?!
Баграм хотел что-то сказать, но не смог: горло перехватило. Вместо него ответила Гюлизар-ханым:
– Нет, о господин! Рюкийе-ханым не отравлена, аллах кемеретли! Она беременна!
«Аллах кемеретли! – Баграм опустил голову, чтобы скрыть слезы, внезапно набежавшие на глаза. – Бог милостив! Бог милостив?..»
– Не хочу, не хочу… не хочу!
Лиза подняла опухшее, землистое лицо и, с трудом шевеля онемевшими губами, простонала:
– Помоги мне, эффенди Баграм! Помоги мне или, клянусь богом, я удавлюсь вот этими шелковыми покрывалами, или перегрызу жилы на руках, чтобы по капле выпустить всю свою кровь! Я не хочу этого ребенка, слышите? Я не хочу, чтобы он родился!
Лиза со стоном уткнулась в подушку. Ей чудилось, что ее завязали в мешок и бросили в воду и вот уже мокрая грубая ткань облепила тело, вытесняя последний глоток воздуха… Все беспечные надежды на спасение вмиг оказались беспочвенными, напрасными, а она сама навеки прикованной к этому ложу, этим покоям, этому дворцу, этой жизни. К этому человеку! И еще более, чем Сеид-Гирея, она ненавидела сейчас себя, свое тело за то, что в потоках наслаждения не распознала проникновения отравы, коей долженствовало теперь прорасти из ее чрева губительным сорняком. Этот день боли и страданий стал для нее началом тяжкого очищения. Словно бы вместе с желчью и кровью из нее изверглись нега и расслабленность последних месяцев. Не то грех, что она позволяла телу роздых после своих долгих странствий; то грех, что она стала находить наслаждение в рабстве, ибо при том, что на пиастры Сеид-Гирея было куплено ее тело, на его изощренный и жестокий пыл чуть не стала куплена ее душа. Теперь все осталось позади: сердечная привязанность, плотское томление… Она словно бы уже чувствовала, как холодные, живые щупальца оплетают ее нутро, ее сердце, и с новым воплем отвращения склонилась над тазом, который еле успела подставить Гюлизар-ханым.