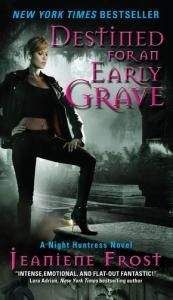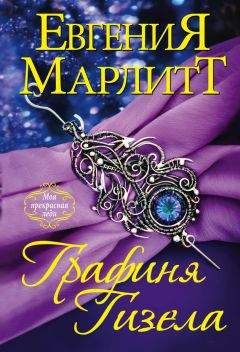Гувернантка в изнеможении опустилась на кресло.
— Все это я прощаю вам! — продолжала Гизела. — Но вот чему я никогда не могу найти прощения — тому, что вы всячески старались сделать из меня бесчувственную машину!.. В мои юные годы вы внушали мне ложные понятия о добрых делах и о возвышенных радостях жизни, заковывая сердце мое в панцирь приличия и дворянского высокомерия!.. Как осмеливались вы поступать таким образом, непрестанно разглагольствуя о религии и ее тенденциях и в то же время уничтожая все честные стремления вверенного вам существа?
Она отвернулась к двери.
— Графиня, — вскричала госпожа фон Гербек, — куда идете вы?
Молодая девушка жестом приказала ей замолчать, а сама отправилась далее к выходу.
Прихожая была пуста. Прислуга занята была в танцевальном зале, где в это время гремела бальная музыка. Гизела, не замеченная никем, вышла из двери. Усыпанная песком площадка подъезда освещена была светом, падавшим из окон.
Быстро миновала Гизела светлое место и вошла в ближайшую аллею. Но тут она вдруг остановилась и вскрикнула — из-за дерева показалась чья-то фигура и остановилась перед нею.
— Это я, графиня, — сказал португалец взволнованным голосом.
Испуганная Гизела, отступившая было на несколько шагов назад к площадке, остановилась, между тем португалец вышел из тени аллеи и приблизился к ней.
Полоса света падала на его непокрытую голову и освещала каждую черту его прекрасного лица; глаза его горели радостным изумлением и страстью, которую он, видимо, и не желал скрывать.
— Я ждал вас здесь, чтобы увидеть, как вы сядете в экипаж, — проговорил он голосом, сдавленным от сильного волнения, — Пасторский дом недалеко, и туда можно дойти пешком, тем более просительнице, какой я иду туда, — сказала девушка мягко. — Я разорвала всякую связь со сферой, в которой я родилась и воспитывалась, и там я оставлю все, — она указала на замок, — что несколько дней еще тому назад однозначно было связано с именем графини Штурм: украденное наследство, высокомерие и все те так называемые преимущества, захваченные себе эгоистической кастой… Я до сей поры ребячески убеждена была, что исключительное положение ее относительно другого человечества именно обусловливалось тем, что отделяло чистое от нечестного, добродетель от преступления, а теперь вижу, что преступлению нет нигде столько простора, как в изолированной сфере. Несколько минут тому назад я поняла, что это так называемое благородное сословие вдвойне достойно наказанья за то, что, называясь благородным, поступает неблагородно, прибегает к обману, чтобы скрыть пятно бесчестья от глаз света… Я бегу к людям, которые действительно люди. Я буду просить гостеприимства в пасторском доме.
— Могу я вас туда проводить? — спросил он тихо.
Она, не колеблясь, подала ему руку.
— Да, опираясь на вашу руку, я хочу вступить в новую жизнь, — сказала она с сияющей улыбкой.
Он стоял перед нею точно так, как и в каменоломне, и не принял протянутой ему руки.
— Графиня, я напомню вам один темный момент из вашего детства, тот несчастный случай. вследствие которого вы получили болезнь, которая лишила вас радостей детского возраста, — проговорил он глухо. — Это было на том самом месте, — он указал на площадку, облитую светом, — где грубый строптивый юноша оттолкнул от себя так безжалостно маленького, ни в чем не повинного ребенка. Гизела побледнела.
— Я вам уже сказала, что это воспоминание погребено во мне вместе…
— С ним, с тем несчастным, утонувшим в ту же ночь, не правда ли, графиня? — перебил он ее. — Но он не утонул; его спас брат, вслед за тем нашедший себе смерть в волнах, из которых он его вытащил! Эта самая рука. — продолжал он, поднимая руку, — оттолкнула вас, графиня Штурм! Я тот самый Бертольд Эргардт, который наговорил так много неприятных вещей его превосходительству.
— Вы еще недавно сказали мне: кто знает, как страдал он в ту минуту! Князь только что сделал вам упрек, что вы ненавидите дворянство, — вы, во всяком случае, имели тогда печальное основание оттолкнуть от себя представительницу этого сословия, в ту минуту, конечно, еще ни в чем не повинную.
— Должен ли я объяснить причину? — спросил он.
Она утвердительно кивнула головой, и они оба пошли тихими шагами по аллее.
И он стал рассказывать ей историю любви своего погибшего брата, затем как он страдал, обманутый любимой девушкой. Он указал ей на висевшие вдали темной массой утесы, где вынесло последнюю, тяжелую борьбу благороднейшее сердце… Далее он рассказал ей, как бежал он сам из отечества с пылающим чувством мести в груди, как потом жажда деятельности привела его к благосостоянию и как у него родилась мысль приобрести заброшенный горный завод, купив его, и создать нейнфельдскую колонию в том виде, в каком находится она в настоящее время.
И когда, наконец, рассказ его был кончен, две маленькие нежные ручки взяли его руку и крепко пожали ее.
— Графиня, рука эта не внушает вам отвращения?
— Нет — как могло бы это случиться? — проговорила она тихим голосом.
Он взял ее руки и быстро повел ее по аллее.
— Помните ли вы те слова, которые вы сказали мне, когда я думал уйти от вас навсегда? — произнес он в волнении, прижимая к своей груди ее трепещущие руки. — «Я хочу с вами умереть, если это понадобится!» — прошептал он ей на ухо. — Это были ваши слова, Гизела, не правда ли? Но эти слова были сказаны португальцу с благородным аристократическим именем, который исчез в ту самую минуту, когда выполнена была его задача; перед вами стоит немец с самым обыкновенным мещанским именем, от которого он никогда не откажется.
— И этому человеку я говорю, — перебила она его твердым голосом, с любовью поднимая на него глаза, — что не умереть я хочу, Бертольд Эргардт, а жить, жить с вами!… Вы слышали, как я объявила князю, что жизненный путь открылся передо мною ясно и определенно? По этому пути я пойду, опираясь на вашу сильную руку…
В то время, как она это говорила, горячие губы, которые она уже однажды чувствовала на своей руке, прильнули к ее лбу.
Вскоре Гизела стояла у дверей пасторского дома, а португалец отошел в сторону, дожидаясь, когда молодая девушка войдет под гостеприимную кровлю.
В то время как юная имперская графиня Штурм навсегда покидала Белый замок, а с ним вместе и аристократическую почву, министр ходил взад и вперед по своему кабинету; волосы его против всегдашнего обыкновения были всклокочены, а пальцы судорожно перебирали надушенные, кое-где засеребрившиеся пряди.
Наконец, в волнении он бросился к письменному столу и начал писать. Капли пота выступили на его бледном, как воск, лбу, зубы стучали, как в лихорадке, и рука, отличавшаяся до сих пор таким железным, твердым почерком, выводила какие-то неясные иероглифы на бумаге.