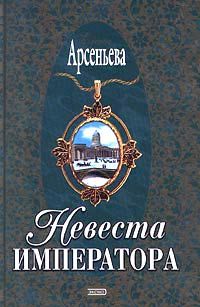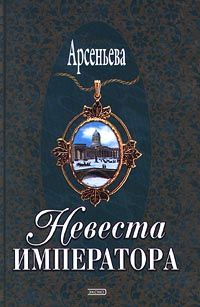Видя это прощальное, неразрывное объятие, князь Федор даже руку к сердцу прижал, ибо вполне живо ощущал, что чувствует сейчас Меншиков. Все-таки одно дело — поверить в чудо, измысленное Сивергой для спасения Маши, и совсем другое — увидеть мертвое, восковое лицо любимой дочери, услышать, как застучали по крышке гроба комья земли.., ждать ее теперь в этой серебряной, призрачной ночи, не веря, не зная, придет она — или в самом деле так и лежит в кромешной могильной тьме. И вот теперь они вновь встретились — чтобы вновь пережить разлуку, столь же необратимую, как смерть. Поэтому он стоял молча, терпеливо ждал, не обращая внимания на встревоженные Савкины взгляды. Все правильно, все верно: отойти от Березова лучше затемно, пока спит всякий случайный взор, однако у него сердца не хватало произнести роковое слово и оторвать Машу от отца.
Александр Данилыч сам все вспомнил, сам очнулся, сам разомкнул объятия и, поцеловав дочь в лоб, взглянул на князя Федора с улыбкой, которая на этом смертельно-бледном лице казалась судорогой боли:
— День сегодняшний пуще иного года исполнен душевного трепетания… Боже мой! Только нынче постиг: что я видел, что знал прежде?! Великий государь несся по жизни, будто звезда летучая, меня в вихре движения своего увлекая. Мы видели только грядущее, отринув настоящее; мы зрели чужую удачу, позабыв о мудрости родной… Да у Баламучихи больше ума, чем у меня! Она что-то учуяла сегодня.., я же, может статься, жизнь свою проиграл лишь потому, что утратил этот нюх, это чутье живого, русского.., нет, просто — человека. До сих пор умом не постигаю, как возможно было сделать то, что сделала Сиверга, до сих пор мерещится в этом какой-то подвох! Веру утратил, вот и.., рухнул.
Маша отстранилась, пристально глянула на отца, попыталась что-то произнести дрожащими губами, но он с ласковой улыбкой покачал головой:
— Нет, нет! Я не ропщу, я с умилением предаюсь воле Творца. Кого боги хотят погубить, того лишают разума. Ну а я.., лишен был веры. Да что! Был я баловнем судьбы, все мне досталось шутя — шутя и утратилось. — Он хохотнул. — Впрочем.., не совсем.
Не выпуская Машиной руки, Александр Данилыч поманил князя Федора в тень и, пошарив за пазухой, извлек нечто, на первый взгляд показавшееся хороводом крошечных мерцающих звездочек, и только когда ладони Федора коснулось что-то колючее, он понял, что держит драгоценные каменья.
— Алмазы? Ожерелье?! Быть не может! — недоверчиво шепнула Маша. — Но.., нет, как? Где ты их спрятал?!
— Не могу же я выдать любимую дочь замуж безо всякого приданого, — пожал плечами Александр Данилыч, и князь Федор отметил, как ловко он уклонился от ответа.
— Нет, я не возьму, — отстранилась Маша. — Тебе, всем вам здесь они куда нужнее!
— Э-э, нет!.. — отскочил Меншиков и едва не упал, едва удержался, вцепившись в плечо Федора. — Ничего, ничего. Это я каблук плохо привинтил.
Маша глянула вниз. Отец был обут в свои единственные сапоги с высокими наборными каблуками: сапоги, сшитые по старому русскому образцу, а не новомодные башмаки с пряжками, которые всегда нашивал при дворе.
— Быть того не может, — повторила она ошеломленно. — Неужто в каблуках?!
Меншиков торжествующе рассмеялся:
— Да, Пырский с Мельгуновым чуть ли не в ушах у меня шарились, а сапоги снять не додумались. Я же, предчувствуя новые Петькины и Долго… — Он хмыкнул, скрывая обмолвку, и смущенно покосился на Федора:
— Предчувствуя, стало быть, новые противников моих пакости, исхитрился еще в Раненбурге измыслить схорон [96]. И, как видите, очень кстати.
Он похохатывал, весьма довольный собою, но от князя Федора, который не сводил глаз с тестя, чая в его взвинченности какой-то новой неожиданности, не ускользнула смущенная заминка, предшествующая новому широкому жесту: сунув руку за пазуху, Меншиков извлек оттуда две алмазные серьги и сунул их дочери.
— Бери, не спорь, — сказал ворчливо. — Пригодятся. Корабельщики, знаешь, какой народ? Три шкуры с вас драть будут за провоз, а до Лондона, чай, дорога долгая! Может, с нашими-то еще столкуетесь сердечно, а как сядете на аглицкую ладью, так каждый камушек в ход пойдет! Еще ладно, что зимовать не придется в Архангельске, а то б и вовсе… — Он осекся, но, взглянув в блеснувшие глаза князя Федора, только рукой махнул:
— Ах, язык-то помело, чертов болтун!
— Откуда вам сие ведомо, батюшка? — воскликнула изумленная Маша, а князь Федор ничего не спрашивал: и без слов было ясно, что Сиверга открыла Меншикову грядущее.
Значит, все обойдется, все сбудется, их ждет удача!
Князь Федор всегда верил в нее, но верить — это одно, а знать доподлинно — совсем другое, и сейчас он чувствовал себя так, будто у него выросли крылья. Руки чесались скорее взяться за правило [97] карбаса, распустить парус, поймать волну и ветер, вдохнуть полной грудью воздух свободы, но он сдерживал себя, не забывая: эти двое прощаются навсегда.
Маша сжала в горсти драгоценности и орошала их тихими слезами, а отец растерянно глядел на нее, и лицо его было уже вполне различимо: короткая северная ночь шла к концу, стремительно близился рассвет.
— Да полно, полно тебе! — не выдержал он наконец. — Полно меня хоронить заживо! Мне вон церковь еще построить надобно! Доколе строю — жив буду.
И знай — ничто не зряшно в божьем промысле. С высот положения своего был я низринут затем, чтобы осознать: на высоты духа мне еще предстоит подъем многотрудный, а это и почетнее, и достойнее, нежели высоты власти. Пустое все, ей-же-ей! Одна твоя слеза, Машенька, по мне, заблуднику, сейчас для меня дороже всех богатств мира, мною потерянных. Потерянных… — повторил он с задумчивым выражением, хлопая себя по карманам. — Вот же черт! Неужто потерял?!
Князь Федор громко закашлялся, пытаясь скрыть смех и слезы. Господи, как же любил он сейчас этого неуемного, непобедимого Алексашку, как жалел о том, что не дано им было близко узнать друг друга! И, верно, Меншиков думал о том же, ибо, выудив из бездны своих карманов бесценный перстень с брильянтом в добрую горошину и небрежно сунув его дочери, словно игрушку-безделицу, он стиснул руку князя Федора.
— Не думай, что я ничего не понимаю, не чувствую, что значило тебе — Долгорукову! — все сие испытать, пережить, содеять, — сказал Александр Данилыч, и Федор снова глухо кашлянул, ибо у него запершило в горле. — Жаль, что чужеземщина тобою обогатится, а Россия — обеднеет. Жаль, что из-за меня, старого дурня, принужден ты на чужбину бежать. Жаль, что внук мой на чужбине… Эх, ладно! Прощай, князь Федор! До гробовой доски буду за тебя, как за сына, бога молить.