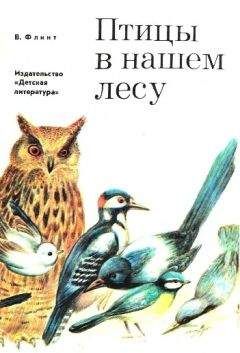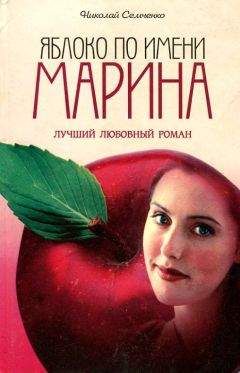Анна Дубчак
Мария Петровна
Ее дом стоит на самой окраине города, в тихой тополиной глуши, затерянный средь трех маленьких Озер. Крепкий, добротный, он со всех сторон окружен садом, который переходит в лес. В саду много старых, разросшихся яблонь и маленьких, приземистых, обильно плодоносящих вишен, в тени которых растет густой черноглазый паслен.
Мария Петровна хорошая хозяйка, каждая вещь у нее знает свое место. Три большие комнаты, кухня, просторные сени, сарай для дров — все чистое, ухоженное.
Управится она с делами, заварит чай с шиповником, поговорит с котом Тимофеем — и на крыльцо. Тишь кругом, тополя за садом шепчутся, солнце оранжево красит яблоню перед крыльцом, а с нее нет-нет да и упадет, сорвется с треском темное, в соку, яблоко, глухо стукнется о землю и замрет в пожелтевшей траве.
На крылечке сидит Мария Петровна. Сидит тонкая, по-девичьи стройная, руки на коленях, и лишь лицо — коричневое, сухонькое, в долгих морщинках; выцветшие, цвета кофейных зерен, глаза без ресниц, опущенный грустный рот с сиреневой каймой, волосы спрятаны под тугой красной косынкой, халат теплый, яркий, из-под него выглядывают обрезанные валенки и тонкие лодыжки в серых пуховых носках.
Хоть и сентябрь на дворе, а солнышко печет вовсю, греет плечи, колени, слепит глаза.
Поскребет изнутри дверь Тимофей, толкнет и сам откроет, сядет рядом, как хозяйка, прямо, строго, обовьет лапы хвостом, полуслепыми от старости глазами, желтыми, как осенний лист, уставится на яблоню и жмурится, урчит; черный нос, сухой и твердый, подрагивает, и только редкий ветерок, пробежав по густой серой шерсти, заставляет встрепенуться острое розовое ухо.
Многое вспоминается Марии Петровне в такие минуты, особенно часто — Николай, покойный муж. Она и крылечко полюбила за то, что ждала на нем мужа с работы. Так же вот управится, бывало, присядет и смотрит на калитку, на тропу за забором, не мелькнет ли черная кожанка, не послышатся ли знакомые шаги. Наконец калитка распахнется, и войдет он, статный, подтянутый; и кожанка сидит ладно, и сапоги начищены до блеска. Лицо круглое, румяное, шея крепкая, того и гляди, гимнастерка лопнет.
— Марья, а Марья, а к крыльцу не примерзнешь?
Подойдет, поцелует, а потом идет в дом. Обедают долго, едят сытно.
— Ну, хозяйка, накормила, — Николай встанет из-за стола, хлопнет себя по тугому, стянутому жестким солдатским ремнем животу, скажет, улыбаясь:
— Ну и накормила! Как же я теперь работать буду?
Николай всю жизнь в военных, оттого и выправка такая, и стать, и голос: командирский, громкий. После отставки утвердили его работать на нефтебазу, начальником. Там и работал до самой смерти.
Умирал на руках у жены.
— Маша, жаль, деток нет… — говорил напоследок. — Одна остаешься.
Плакала Марья, держала на коленях его голову и плакала. Не могла понять смерть, не могла и не хотела. В Бога не верила, а когда голосила на кладбище, когда за гробом рвалась, и его вспомнила. «На что, — кричала, — на что тебе мой Коля? Зачем мужа от жены родной отрываешь?»
А детей не было да и не могло быть. Еще ребенком упала она зимой в колодец, сильно застудилась, чудом жива осталась.
Девицей росла сбитой, озорной и смышленой. На химика-пищевика выучилась и в город работать приехала. Подружки городские курить научили, сначала чтоб «фасон держать», потом втянулась и без папироски уже никуда.
Колю встретила на танцах, в парке. В первый же вечер объявила ему, что курит. «Не вздумай приставать, — предупредила. — Целовать курящую женщину все равно что пепельницу, понял?» И расхохоталась.
Коля все понял, и через два месяца они поженились. А когда Маша узнала, что детей не будет, пришла и сказала: «Бросай меня. Бесплодная я баба. Пустоцвет. Так-то вот».
Не бросил, любил сильно, возил с собой по всей стране, куда по службе отправляли, а когда война началась, оставил ее в этом доме и уехал. «Жди меня здесь». Письма писал хорошие, веселые, с фотокарточками, где он все с генералами да с начальниками большими и в кожанке. Шутил в письмах, а она читала и плакала, плакала и ждала. Война кончилась, а его все нет и нет. Нагрянул неожиданно, зашел в дом и остановился как вкопанный. Он узнал ее, конечно, хотя в памяти оставалась пухленькая веселая Маша. Он смотрел на маленькую, словно высохшую, хрупкую женщину и не мог понять, что с ней сталось. Все в ней заострилось, потончало, что ли, а лицо так словно потемнело, потухло.
А она вдруг засмеялась, его увидя, засмеялась грубым, осипшим и прокуренным голосом: «Что, кожа да кости? Вот так мы и жили всю войну, зато выжили…»
И подумалось тогда обоим, что дороже друг для друга людей на свете нет, что драгоценней этой минуты быть не может.
И стали они жить-поживать в своем доме. Развели сад, огород. К ним тянулись люди — друзья довоенные, кто жив остался, и однополчане Николая, Машины подруги, почти все вдовы. Гуляли шумно, весело и, хмельные, уходили подальше в лес, жгли костры, пели песни, плакали, смеялись…
Мария Петровна достала из одного кармана телогрейки коробку с «Беломором», из другого — клочок ваты и маленькую отвертку. Привычным движением скрутила жгутик из ваты и сделала фильтр, посмотрела на готовую папироску, вздохнула и закурила. Голубой дымок, как бы нехотя, растворился в холодном прозрачном воздухе. Тишина давит, оглушает, кажется, вся природа сговорилась и онемела, даже тополя стоят не шелохнувшись, застыли посеребренными свечами, высокие и величественные. Тимофей спит, уютно устроившись у ног хозяйки, подмяв под себя мягкие, пушистые лапы.
А ведь было и здесь шумно, еще совсем недавно, когда решилась Мария Петровна пустить на квартиру студенток-медичек. Шустрые были девчонки, громкоголосые, неряхи и неумехи. Они нарушили весь уклад дома и все делали не так, как хотелось бы и к чему привыкла хозяйка. Проспав утром, они убегали в училище, оставив неубранными постели, полные тазы с мыльной водой и остатки завтрака на кухне…
Сначала Мария Петровна молча прибирала за ними, успокаивая себя тем, что это все временное, случайное, но потом начались самые настоящие скандалы с криками, шумом, выяснением отношений, слезами и хлопаньем дверей: молодые не любят, когда их учат. «Ведь я так помру скоро», — думалось ей по ночам, когда одолевала бессонница.
Наступила зима, и стало понятно, что отступать поздно, не выгонять же людей на мороз. А потом все как-то само собой наладилось. Зима их сблизила, примирила и успокоила. Сидя втроем в жарко натопленной кухне, они слушали метель за окном, пили чай с травами и коротали время в долгих разговорах.
Тимофей мурлыкал перед печкой, и огонь, отражаясь, играл в его янтарных, выпуклых глазах.