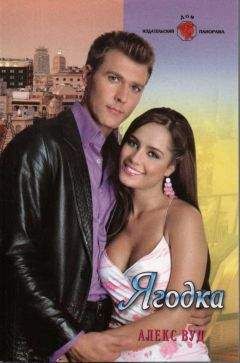Вместо уныния и затворничества она ударилась в веселье, не пропуская ни одних посиделок, но чувствовался в её неудержимой удали горький надрыв, и даже в самых весёлых и светлых песнях, которыми она чаровала слух односельчанок, сквозила боль. По-прежнему никто не мог перепеть и переплясать её, а холостые кошки смотрели влюблёнными глазами, как она горделиво шагала по улице, неся свою незримую печаль бережно, как хрустальный кубок. Кручина, точившая Крылинку изнутри, слегка подсушила её тело, сделав его более поджарым и лёгким, но могучая стать и сила, доставшаяся ей от Медведицы, оставалась с нею. Щёчки-яблочки слегка осунулись, больше и темнее стали глаза, ищущие, тоскующие, пронзительные. Как это ни удивительно, но не подурнела, а лишь похорошела Крылинка от своей беды. Ни с кем нарочно она не заигрывала, но помимо её воли молодые кошки теряли головы от её печальной красоты и внутреннего надлома, на котором она жила и дышала вопреки всему. Да что там – казалось, даже лужи и слякоть разбегались от неё, когда она шагала вперёд, гордо неся себя навстречу новым дням.
Однажды, охваченная коварным хмелем, она обнаружила себя под кустами калины, на влажной траве, а сверху на неё наваливалась Ванда. Руки женщины-кошки блуждали по её телу, мяли ей грудь, а жадный рот горячо скользил по шее, подбираясь к губам. На свет под навесом летели ночные мотыльки – туда, где под крышей продолжалось беспечное веселье, частью которого Крылинка больше не была. Она лежала здесь, в неприятно намокшей на спине рубашке, придавленная тяжестью кошки, такой же хмельной, как она сама. В небесном тереме жил лишь призрак разбившегося счастья, и его золотые глаза смотрели сверху с мягким укором: «Как же ты тут оказалась? Как до такого докатилась?»
Жар пробежал по её жилам, ужалив в сердце и очистив разум, а с ним вернулась к ней и сила. Раскатисто рявкнув, Крылинка оттолкнула Ванду, да так, что сбросила её с себя.
– Не прикасайся! Уйди!
Подёрнутые хмельной поволокой глаза светловолосой кошки уставились на неё в жутковато-пристальном прищуре, ночное небо зажигало в них горькие искорки.
– Что же ты со мною творишь-то, а? – глухо процедила Ванда. – Издеваешься надо мною… То поманишь, то оттолкнёшь! Это уже невыносимо!
– Не ври! – поднимаясь на ноги, рыкнула Крылинка. – Никогда не манила я тебя, не звала, не обнадёживала, ничего не обещала. Это ты ко мне приклеилась, домогаешься меня! Ступай прочь, не люба ты мне и никогда не была! Не моя ты судьба!
Растрёпанная, наполовину распущенная коса рассыпалась по её плечу и груди, ночная свежесть отрезвляла и высвечивала перед нею пустой и одинокий путь, не согретый теплом родного сердца.
Из весны в весну матушка Годава всю Лаладину седмицу пекла, жарила и варила, не оставляя надежды, что дочь приведёт однажды в дом суженую. Плясала Крылинка, пела и напивалась хмельным, но не подходил к ней никто, не брал за руку и не говорил ласково: «Крылинка, ты – моя судьба. Стань моей женой!» А всё потому, что та, чьи синие очи запали ей в сердце, покинула их дом пять лет тому назад с двадцатью кожами, а за оставшимся десятком так и не зашла. Родители сказали «нет», обрубив тёплую пуповину, которая связывала Крылинку с единственно верной стороной, где жило её счастье, когда-то такое осязаемое, а сейчас уже далёкое, ушедшее за завесу сверлящей душу горечи.
– Ни к чему это, матушка, – сказала она, окинув взглядом кухонный стол, в очередной раз полный праздничной снеди. – Для кого ты всё это стряпаешь? Кого ты ждёшь? Вы же сами прогнали ту, к кому лежала моя душа!
– Не отчаивайся, доченька, – спокойно ответила мать, раскатывая тесто. – Сколько надо, столько и подождём. Твоя истинная половинка просто ещё не нашла к тебе дорогу, но вот увидишь, однажды ты её встретишь, и обморок подскажет тебе, что это и есть оно – твоё счастье, твоё и больше ничьё!
– Да дался вам этот обморок! – швырнув горсть муки, крикнула Крылинка. – Что за… глупости! К кому загорелась душа – та и есть судьба моя!
– Не глупости, а знак, – невозмутимо возразила матушка Годава. – Уж сколько веков он подсказывает нам правильный выбор! Глупость – это как раз не принимать его во внимание. А страсти порой вспыхивают, это бывает. Но они недолговечны, не стоит принимать их за любовь… Так что жди, доченька, жди и не унывай. Встретишь ты свою половинку.
Ещё несколько лет прошло в этом ожидании. Вернее, это матушка ждала встречи, а Крылинка отсчитывала время разлуки. Искусной хозяйкой стала она, умела приготовить и будничную пищу, и целый праздничный пир, а уж вышивальщицей она была и вовсе непревзойдённой. К ней даже приходили из других сёл и заказывали белогорское шитьё на рубашку, скатерть, платок, наволочку… Все уходили довольными, а некоторые возвращались, чтобы поблагодарить дополнительным подношением сверх скромной платы: рыбой, мясом, хлебом, плодами садовыми. Хворые шли на поправку, печальные забывали свою кручину, неудачливые находили счастье – и всё это приписывали чудесной вышивке Крылинки. Она и рада была приносить людям пользу, да вот саму себя от печали исцелить не могла.
Годы пролетали, как облака в небе. Ванда уж давно оставила её в покое, а потом как-то незаметно обзавелась супругой, взяв её из соседнего Светлореченского княжества. Так же незаметно исчезла светловолосая кошка и с гуляний, увязнув в семейной жизни, но на опустевшее место всегда приходил кто-то новый: подрастала другая молодёжь, которая смеялась новым шуткам и слагала новые песни. А матушка, твердившая Крылинке «не отчаивайся», сама уже понемногу начала терять надежду, а потому, когда в их дом постучалась вдова Яруница, державшая свою небольшую кузню в Седом Ключе, была рада и такой доле для своей дочери.
В одну из Лаладиных седмиц, которые Крылинка посещала уже просто по привычке, к ней подошла стройная, сухотелая кошка с добрыми светло-серыми глазами, в которых светилась мягкая мудрость прожитых лет. Была она ещё крепка, её плечи и осанка сохраняли молодую прямоту и стать, а походка – хищную кошачью плавность. Из-под барашковой шапки виднелись виски, словно схваченные инеем – то проступала чуть приметная щетина. Чёрный кафтан с золотой вышивкой ловко сидел на ней, перетянутый алым кушаком, а на ногах красовались сапоги с тугими голенищами, подчеркивавшими худобу поджарых икр.
– Здравствуй, милая, – поклонилась кошка Крылинке. – Вижу, пригорюнилась ты тут одна, скучаешь.
– И тебе здравия на долгие лета, тётя Яруница, – усмехнулась Крылинка. – По-молодецки выглядишь сегодня!