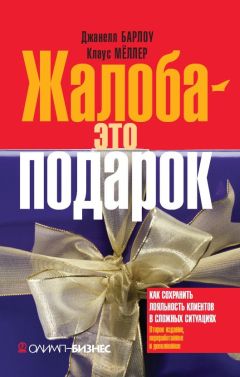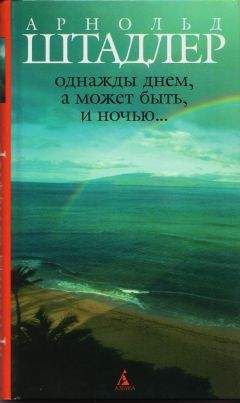Серебряный крест на рясе стал сначала позолоченным, а затем и золотым. Сама ряса, в прошлом хлопчатобумажная, сменилась шелковой.
Отец Гавриил из Сергея Петровича получился хоть куда! Службы он служил смиренно, требы совершал благочинно. Древний язык молитв он так толком и не освоил, немилосердно перемежая его современным. Однако дородная внешность и густой, ближе к басу, баритон, полностью компенсировали этот недостаток, превращая его, скорее, в некую изюминку, лишь добавлявшую любви и уважения прихода к своему пастырю.
Ну и, конечно же, не забывал предстоятель самого себя. Трехэтажный дом, огромный внедорожник, молодая жена и многочисленный розовощекий выводок, – все было при нем.
Усвоив из богословских книг, что человек слаб, а грех неизбежен, ни в чем себе отец Гавриил не отказывал. Словом, делая вид, что любит бога, любил он жизнь во всех ее проявлениях. А жизнь, очень даже, любила отца Гавриила.
Войдя в просторную палату, напоминающую трапезную, Марья Ивановна оказалась перед святым отцом.
– Здравствуйте, батюшка!
– Здравствуй, дочь моя. Как зовут тебя?
– Марья Ивановна. Можно просто – Мария.
– Откуда пожаловала, Мария?
– Из города. Вот, с Николаем Угодником хотела пообщаться, а мне тут посоветовали…
– Правильно посоветовали. Ты когда в последний на исповеди была?
Марья Ивановна постеснялась сказать, что на исповеди она не была ни разу в жизни. Поэтому ответила неопределенно:
– Давно.
– Это плохо. Исповедь душу очищает, облегчение приносит. С чем пришла, в чем согрешила?
– Да, как бы это сказать… В общем, мне шестьдесят пять. Вроде, жизнь уже прошла, а я… я… влюбилась я. Не грех ли это в моем возрасте?
– Любовь не грех, если любовь не греховна. Ты замужняя?
– Нет, в разводе давно.
– Стало быть, любовь твоя не твой муж?
– Нет, конечно. Нет у меня мужа.
– Если женатого полюбила, это грех. Сказано богом: «Не возжелай жены ближнего своего». Это же и к мужу чужому относится. Тот, кого ты любишь, женат?
– Я не знаю. Скорее всего, да.
– Грех тогда на тебе большой. Смирить тебе надо и дух свой и плоть. А ты почему не знаешь о его семейном положении? Или он скрывает?
– Я с ним лично никогда не встречалась. Только по телевизору вижу, а вживую только один раз и издалека.
– Так у вас с ним плотских сношений не было?
– У нас ничего с ним не было. Он для меня и не человек: идеал, кумир.
– Это тоже грех. «Не сотвори себе кумира», так господь на скрижалях Моисеевых запечатлел. Здесь, дочь моя, епитимью налагать надо…
Немного отойдя от первоначальной неловкости, Марья Ивановна стала потихоньку рассматривать обстановку и самого батюшку. Батюшка был хорош: черная окладистая борода с проседью, густые, несмотря на возраст, волосы, кустистые брови… Не человек – монумент. Да и шутка ли: от самого бога по доверенности действует. А ряса-то! Ох, красотища…
И тут, восхищаясь шелковой рясой, Марья Ивановна посмотрела вниз и увидела край голой ноги священника, обутой в сандалию. На большом пальце отца Гавриила рос неостриженный желтый ноготь!
Марья Ивановна вдруг поняла, почему раньше не ходила на исповедь: Кому исповедаться, понятно, но перед кем? …Что у него под рясой? Чем он занимается, когда уходит домой? Куда он гоняет на своем большом черном внедорожнике? Собираются, наверное, за столом и нас, дур, обсуждают. Ржут, поди, над нами! А я тут про любовь свою рассказываю, а он мне про епитимью… Боже мой! А сам-то он, когда в последний раз исповедался? И кому? И в чем?
Теперь, куда бы не смотрела Марья Ивановна, желтый ноготь неизменно притягивал к себе ее взгляд. Все сводилось к нему, начиналось и заканчивалось на нем. Как Альфа и Омега…
Раньше я посмеивался над излишним тщанием при формировании имиджа. А вот, поди ж ты! Одна деталь, сущая мелочь, и весь образ трещит по швам, рушится вылизанный фасад. И шикарная борода, и золотой крест, и баритон, и ряса, будь она не ладна… все летит в тар-тарары, обесценивается, как рубль в девяносто восьмом.
Дальнейшую отповедь слушала Марья Ивановна уже краем уха. Ответы ее стали односложными. Желание пооткровенничать, и так, не шипко сильное, окончательно иссякло.
Этот желтый ноготь будто стал доверенным лицом своего хозяина. Узурпировал внимание Марьи Ивановны, а о разглагольствованиях отца Гавриила и слышать не хотел! Сам все знал, на все вопросы имел ответ:
«А-а, явилась, не запылилась! Здрассьте! Да-да, сам бог, не иначе, спустится сейчас на облаке, что б проблему твою решить. Во, во, – уже летит, смотри, подлетает, посадку давай! Эх, Маша, Маша. Вроде, взрослая, а все в сказки веришь. Так-то оно да: старый, что малый. Что ты там городишь-то? Любовь у тебя, старой дуры? Слов, Машуня, нету! Эх, знала б ты, чем мы вчера в сауне занимались. С любовью, это ты правильно к нам пришла. Ты, может, того, тоже к нам, в баню? Там все и обсудили бы…»
Только не подумайте, что ноготь действительно разговаривал с Марьей Ивановной. Нет, конечно. Монолог его существовал лишь в ее голове, а рассуждал за него врожденный скептицизм, неверие… А так, да мало ли, у кого какие ногти! И говорил отец Гавриил истину библейскую в чистом виде…
Но желтый ноготь этот так опошлил все, так выхолостил саму идею исповеди в глазах Марьи Ивановны, что она, будучи человеком тактичным, встала вдруг посреди разговора и сказав, что ей пора, отправилась на выход, оставив отца Гавриила в полном недоумении: Домой! Домой! Наисповедалась уже, хватит!
К вечеру, Марья Ивановна была дома.
Так она размышляла, вспоминая прошедший день: Да, не вышло из меня верующего человека, не получилось. Так уж воспитали: и хотела бы верить, да никак. Но, что это значит, если я не верю, так и совести у меня нет? Все мне можно, коль не боюсь я страшного суда? Да как же это! Разве обязательно знать, что хорошо, а что плохо, из заповедей божьих? А без них, – разве нельзя? За всю жизнь не взяла я чужой копейки. На мужей чужих не зарилась. От работы не отлынивала. И не потому, что гиенны огненной убоялась, – совести свой боюсь, стыда перед людьми и собою. Чем же хуже я этих чтецов акафистов? В чем уступаю им, чем проигрываю? Да, и не наоборот ли? Я, вот, и без веры в бога живу по-человечески. А вы? Закроется завтра ад на реконструкцию, так и бояться будет нечего! Как это, вдруг, уровняли религию с нравственностью? С чего это?!
И лишь перед сном, укладываясь на свою узкую кровать, вернулась она