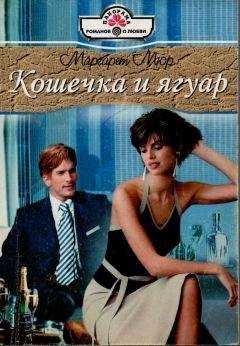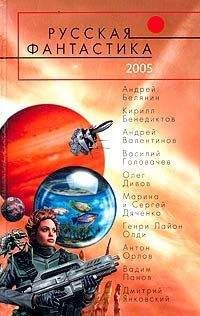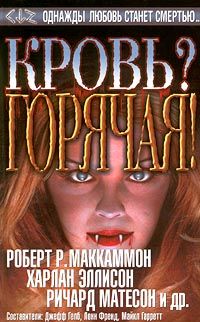— Стой, Магда! Хватит тебе танцевать. Я хочу говорить с тобой.
— Нет, нет, Рамон, — забилась Тори, — пусти меня!
Она так легко неслась в пространстве, так упоительна была свобода ее движений, что неожиданный плен жестких рук причинил ей боль и страх.
— Эй, эй, Рамон, нехорошо. Отпусти девушку. Зачем так делаешь? — раздались голоса.
— При всех говорю, Магда! Хватит тебе танцевать. Будь моей женой, рожай мне детей. Ничего для тебя не пожалею!
Душно и тяжело было Магде в кольце этих жестких рук, как птице, зажатой в грубом кулаке.
— Никогда, Рамон! Пусти, я не люблю тебя!
— Полюбишь!
И вдруг Тори почувствовала, что она свободна. Рамон, отброшенный от нее сильными руками, медленно поднимался с вытоптанной травы. А перед ней стоял незнакомый юноша с огненными волосами и глазами, зелеными как изумруды. Он улыбнулся Магде, а потом обернулся к цыганам.
— Эй, романе, разве девушки не свободны в вашем таборе? Разве они не сами выбирают себе мужа?
— Я тебя узнаю, человек. Ты — сын цыганского барона, Аньоло. Как нас нашел? — Вперед вышел седоусый старик.
— Отец по делам послал. Сейчас своих догоняю. Заглянул к вашему костру и глазам своим не поверил. Что это за новые законы у свободного народа?
— Рано выводы делаешь, Аньоло, — посуровел старый цыган и повернулся к Рамону, — те же у нас законы, что и у вас. А потому — уходи прочь из табора, Рамон. Ты оскорбил Магду. Она сирота, мы все ей — отцы и матери, братья и сестры. А ты — чужой. Уходи...
Тори приоткрыла тяжелые веки, смутно осознавая, что она лежит на диване в гостиной. Но в ту же секунду сон снова сморил ее, и она увидела, что сидит рядом с рыжеволосым Аньоло. Ее рука — в его руке. И ей от этого так хорошо и спокойно, как в те времена, когда матушка держала ее у груди.
А сидят они за длинным столом, уставленным кувшинами с вином и разными яствами, и все вокруг поздравляют их. Это свадьба! — обрадовалась Тори. И тут к ним подошли с двух сторон две старые женщины и велели откинуть волосы от левого уха.
— Ой! — вскрикнула Тори, почувствовав мгновенную боль. Но Аньоло лишь счастливо засмеялся. Теперь у обоих в ушах красовались запаянные накрепко золотые колечки.
— Пусть ничто и никогда не разлучит вас, — сказал седоусый старик, сидевший во главе стола.
Аньоло взял Магду на руки и понес ее к своему шатру. И ей было сладко-сладко в его сильных руках. Он опустил ее на широкое и мягкое ложе, усеянное лепестками цветов. И встал перед ней на колени.
— Как ты красива, любимая, — сказал он. — Никогда я не видел женщины прекраснее тебя.
И Магда сама спустила с плеч красную шаль, чтобы муж увидел, какие у нее гладкие и золотистые руки. И он стал гладить их нежно-нежно, наслаждаясь шелком ее кожи. А потом целовать ее тонкие пальцы и нежные Ладони, а потом — запястья и плечи. Как приятно было ее рукам и плечам! Но уже все ее тело хотело этих ласк, а он медлил. Магда тихонько застонала и изогнулась, подставляя его горячим губам шею. И он поцеловал ее шейку. А потом взял в руки ее лицо и нежно и медленно стал целовать виски, горбинку на точеном носу, бархатистые щеки. И опять застонала Магда. И тогда наконец он коснулся губами ее горящих, набухших губ и стал целовать их сначала нежно и осторожно, а потом все сильнее и крепче, так что она ощутила и гладкость его белоснежных зубов, и сладость языка. И ее губы сами приоткрылись ему навстречу... Целуй, целуй меня, милый, еще глубже и сильнее! Все ее тело трепетало и изгибалось в предчувствии его прикосновений. А как жаждали ласки ее танцующие груди, трепещущие, словно два птенца с алыми клювами...
— Можно, я сниму с тебя твое красивое платье? — прошептал Аньоло. — Ведь ни одно платье в мире не может быть прекраснее твоего тела.
— Сними с меня все до последней нитки, делай со мной все, что хочешь... Скорее, скорее, я так люблю тебя, муж мой!
Он не заставил себя долго просить и снял с нее все. И когда, томясь от невыносимой страсти, он скидывал с себя одежду, не отрывая глаз от чудного, распростертого перед ним тела своей возлюбленной, а она, вскрикнув от восторга и желания, увидела его обнаженным... В этот самый момент распахнулся шатер и в него черным ураганом ворвалась смерть.
Тори закричала и проснулась. Она лежала и плакала навзрыд от невыносимого горя потери. Пока наконец не вспомнила, что это был только сон. Ведь Аньоло обещал прийти к обеду. О Боже, Алан, а не Аньоло. И Тори вдруг густо покраснела, вспомнив себя в образе цыганки Магды и ласки ее возлюбленного, так невероятно похожего на Алана. Она вдруг почувствовала, что все ее тело еще наполнено томлением, а ее шелковые трусики увлажнились. Но... но это значит, что она вовсе не ледышка, как уверял Джордан! О том, что означает этот странный сон, такой необычайно реальный, Тори додумать просто не успела. За окном раздался страшный удар грома и хлынул ливень. А у нее открыты окна в спальне и в мастерской! Тори бросилась сначала в мастерскую, испугавшись за недописанный портрет. Ливень был так силен, что брызги действительно попадали на мольберт. Казалось, что человек на картине плачет. Тори платочком промокнула дождевые слезы и от широты радостно бьющегося сердца предложила Старику — а это был его портрет:
— Не плачьте, милый. Вы так много для меня сделали. Хотите, я нарисую вас молодым, и вы узнаете, что такое любовь.
Но она тут же поняла, что сморозила глупость. Уж кто-кто, а Старик знал, что такое Любовь. Они много говорили об этом. Тори никогда и ни с кем не была так откровенна, как со своим мудрым дядей Джеймсом. Она даже смогла рассказать ему о своей самой страшной, «неделимой» боли — смерти мамы. Дяди Джеймса тогда не было в городе. Он вернулся только после похорон, так и не успев проститься с сестрой. Тори рассказала, как мама боролась с болезнью, всеми силами души и тела ненавидя ее, свою незримую противницу. Исхудавшая и суровая, совсем не похожая на себя прежнюю, она вся была сосредоточена на этой борьбе, почти не замечая близких — мужа и дочку, которые пытались хоть как-то утешить ее, поддержать, отвлечь. Вот отвлекаться она как раз и не хотела. До последнего дня она сама вставала с постели, отталкивая поддерживающие руки. И даже не сразу после смерти ее лицо разгладилось и обрело выражение покоя.
Старик долго молчал тогда. А потом печально сказал Тори, что не надо ненавидеть болезнь, потому что ненависть всегда губит, а лечит только любовь. Бывает, что и смертельная болезнь отступает перед пониманием, прощением, раскаянием и любовью. Потому что, сказал дядя Джеймс, болезнь и страдания — это урок, который надо понять и выучить.
— Не понимаю, — сказала тогда Тори. — Нет, я этого не понимаю!