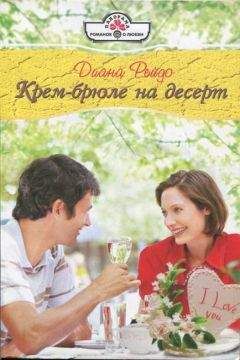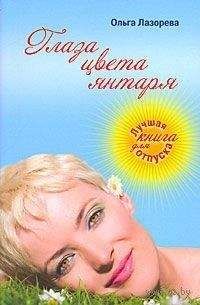Потом мы уехали в Сан-Себастьян. Здесь мне стало казаться, что тыковка, моя осталась в Португалии, я стал брать уроки фламенко у лучшего музыканта города, и он меня хвалил, а потом я встретил Кармелиту.
Она всегда была своенравна и горяча, словно танец, который она исполняла. Я сидел под платаном и учил очень сложный аккорд, когда она спрыгнула с дерева, прямо передо мной.
И пусть она улыбалась снисходительно, и подшучивала надо мной, что я буду учиться еще лет двадцать, но это был ангел во плоти.
Черные гладкие волосы, черный бархатный ободок с алой розой, лукавый взгляд из-под длинных ресниц, белые шорты и золотистая кожа. Она всегда останется для меня той пятнадцатилетней девочкой.
Мы будем уезжать в близлежащие городки, я не брал от нее денег, подаренных ей дедом или матерью.
Она будет танцевать для туристов, а я играть на гитаре. Мадонна, как она будет танцевать: словно разжигая в поле костер, сначала робко, еле заметное пламя, потом все выше и ярче, и уже фейерверком искр, которые попадают в самое сердце, рождая в нем любовь.
Правда она очень быстро уставала, и когда потом мы шли с ней, к автобусной остановке, взявшись за руки, рука ее была холодна, даже в самый жаркий день.
Я собираю чемоданчик: красный жилет-чакетилья, малиновый галстук, и туфли с рубиновыми пряжками.
Рубиновый цвет — это цвет губ моей любимой жены Кармелиты. Десять лет назад мы рискнули, вернее она, своей жизнью, и на свет появилась наша дочь — Лусия. Вердикт врачей после родов звучал, как приговор: детей у нас больше не будет.
Мой свекор, даже не пришел в костел на крещение внучки, не мог простить, что род матадоров Ромиресов прервался.
Арена, она манит восторженными криками болельщиков корриды и сладостными мгновениями славы!
Надо выйти и никуда не деться, я матадор, я здесь главный, я завершаю бой.
Но я страшусь, страх, словно алая кровь на черной шкуре бычка, разливается в душе. Даже восторженные крики «Браво!», интервью в журналах и поклонники, все это не помогает. Тыковка неудачника, та самая из детства, я чувствую ее покачивание, и быки, кажется, ее видят.
Я дал страху имя Аскальдо, так звали первого побежденного мною, в жестокой схватке, андалузского быка. Он умирал долго, его налитые кровью глаза с тех пор снятся мне, и я просыпаюсь в холодном поту, даже в самую жаркую ночь. Ужас ползет в ночи кровавым туманом, мешая спать спокойно, даже моей жене и дочери.
Сегодня моего врага зовут Карлос. Вот как все это было.
Бык, могучий, прекрасный в своей ярости и праведном гневе. Я уже всадил в него две бандерильи, и еще две, мои помощники.
Пурпурные капли падают на арену, глаза быка стекленеют.
Я иду за шпагой, орудием торжества смерти. Через мгновение бык очнется и наступит кульминация боя. Бык или человек! Я не убийца, я матадор. Я являю зрителю смерть в ее парадном виде. Ведь бой — это спектакль, только смерть самая настоящая и кровь тоже.
Время для меня остановилось, я должен попасть в самое уязвимое место врага, оно не больше яблока.
Вошедшая до рукояти шпага убивает быка раньше, чем он об этом узнает. Продолжая порыв, туша его несется вперед, но это уже не крылатый порыв, а судорога трупа. Я не буду его мучить, как мучил Аскальдо, Карлос умрет мгновенно.
Последний удар в этой схватке. Бык повержен.
А мой страх плакал, он был побежден, до следующего выхода на арену, но он и смеялся, он верил, что однажды увидит, как песок жадно напьется моей ржаво-пламенной крови.
Ноги дрожат, я склоняю голову, зрители, кричащие от восторга думают, что это поклон для них.
Я кланяюсь тебе Карлос, ты помог в очередной раз выйти победителем в схватке, меня, с самим собой.
ЭТО началось после боя с Карлосом. Весь вечер было какое — то чувство недоделанных дел. Я позвонил и спросил у ветеринара: «Карлос мертв?»
— Си, синьор Риккардо.
Душная жаркая ночь, сердце гулко стучит в груди, и я просыпаюсь, лицо мое все в слезах, в глазах багровый туман, мне кажется, слезы пропитаны кровью моего сердца.
Я встаю тихо, чтобы не разбудить жену выхожу в сад.
Луна, огромная так близко к земле, что кажется, протяни руку и дотронешься до ее холодного света.
Тело невыносимо ломит, раскалывается голова, и я сжимаю ладонями виски и чувствую под руками, что-то мягкое, покрытое ворсом, словно бархат.
Спешу в комнату и в прихожей вижу свое отражение. Огромная голова быка смотрит мне прямо в душу. Я, теряя сознание, пытаюсь понять: кто из них? Аскальдо или Карлос?
Утром жена будит меня и я, очнувшись, вижу ее прекрасные глаза, в них пока еще только тревога, значит, она еще ничего не знает.
— Риккардо, что с тобой? Ты вчера выпил? Надо было разбудить меня. Я бы помогла тебе добраться до дивана в гостиной.
ЭТО будет случаться теперь в каждое полнолуние. Почти привыкаю и уже не теряю сознание от страха и боли, и уже вижу, что нет, это не мои поверженные быки. Я помню каждого их них, но у оборотня, мой седой хохолок на макушке, и слегка косящий левый глаз, последствие травмы полученной мной в бою.
Я пойду в храм и буду умолять: «Аве Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей». Но и молитвы, и отпущение грехов не помогли.
Однажды засидевшись в кафе, после концерта знаменитого музыканта фламенко, я почувствовал приближение приступа.
Успел выбежать на улицу и добежать до поворота, а потом упасть на мощенную мостовую.
Надо мной светил фонарь, и тень на камнях была чудовищно огромной, я хрипел, как раненый бык, я умирал каждый раз, словно от шпаги матадора.
Я не услышал шаги моей возлюбленной, моя Кармелита, смело приблизившись, присела на корточки рядом, ее прохладная ладонь легла на лоб оборотня, и пока луна не спряталась за тучи, моя жена, видела меня поверженным быком.
Кармелита узнала правду, и о, моя возлюбленная, готова была ради меня на все.
Мы покидаем огромный город и переезжаем в поместье ее деда.
Огромный участок земли, поля, где в полнолуние, я прячусь от моей Кармелиты и дочери Лусии.
Наша, Лусия. Наш маленький ангел, зеркальная копия моей Кармелиты.
Я помню, как в три года она примеряла шляпу матадора — мотеру. А в пять просила, отвезти ее в школу, где учат побеждать быков, и горько плакала, когда я ее обманул, сказав, что в нее принимают только мальчиков.
Но тут снова вмешался дон Ромирес, он стал учить правнучку сам. Пластику она, конечно, унаследовала от матери, отвагу от деда, а от меня ей достались лишь каштановые кудри.
К десяти годам она уже смело могла называться новильеро, и могла бы противостоять бычку — трехлетке.