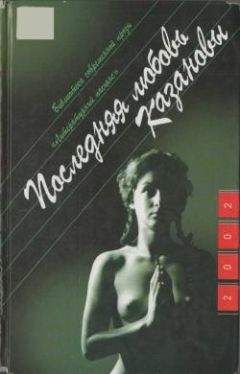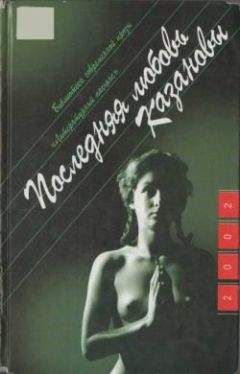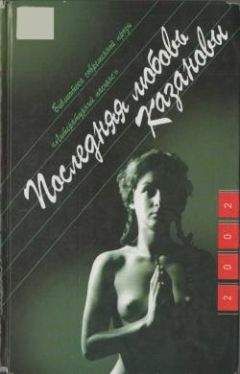Винсент отошел от перил и сел на один из уродливых садовых стульев.
«Вот откуда взялась наша Анаис!» – шепнул он мне.
Мне хотелось подбодрить Винсента дружеским словом. И он, и я, мы любили Анаис за это изначальное пятно и всегда об этом знали. Почему не признаться в том открыто? Винсент только что говорил про «рану». Должен ли я скрывать от себя, что обожал эту рану в Анаис, что я тайно чтил воспоминание о том покушении и праздновал его каждый раз, когда она приглашала меня проникнуть в нее и отметить вторжение в самую сердцевину и первый миг ее плоти, в месте хрупкого сочленения ее существа.
Мне пришла гнусная мысль о том, что четыре насильника той первой ночи лишь посвятили Анаис в ее собственную тайну, втолковав ей, что она ранена природой и судьбой и что именно по этой ране распознали маленькую воровку. Так что у других есть право обыскивать ее и отнимать все, что она взяла. Ничего из того, что заключает в себе ее тело, ей не принадлежит.
Она написала родителям, как ей грустно от того, что их разделяют десять тысяч километров, но мсье Чалоян очень мил с ней и дает ей книги.
Она прочитала «Тысячу и одну ночь», иллюстрированную скабрезными гравюрами. Эта книга ни под каким предлогом не должна была покидать гостиную мсье Чалояна: Анаис проводила субботы и воскресенья в квартире господина директора. Как только остальные девочки уезжали из пансиона в пятницу вечером, она поселялась у него. Мсье Чалоян посоветовал ей входить через дверь на кухне, чтобы не попадаться на глаза вахтеру.
Господин директор не принимал гостей каждую субботу. Порой он и сам отлучался на выходные. Анаис оставалась в квартире одна. Мсье Чалоян доверял своей маленькой воровке: поскольку она сама не умела отличать дозволенное от недозволенного, ее совсем просто было выдрессировать. Приказы, полученные от директора, помогали ей ориентироваться в неясном потоке своего сознания. Она была создана для повиновения и услужения, о чем возвещали детская хрупкость ее черт, нежность форм, которые словно требовали, чтобы ею располагали и наслаждались. Мсье Чалоян звал ее своей Шехерезадой. Поджидая вместе вечерних гостей, они говорили о прекрасной осужденной, которая могла заслужить себе отсрочку, ночь за ночью, лишь беспрестанно забавляя своего господина известным образом – каждый раз придумывая неслыханную историю, которая не давала бы ему сомкнуть глаз до зари. Развлекать, нравиться и подчиняться – таково было в глазах мсье Чалояна естественное призвание девушки и, так сказать, смысл ее существования. Этому ее важно было обучить с самого детства. Именно этим он и занимался с Анаис. Разумеется, он выполнял свой долг воспитателя.
Анаис продолжала прислуживать за столом. Тихая и скромная, она следила за тем, чтобы бокалы господ никогда не оставались пустыми. Если с колен гостя падала салфетка, Анаис убирала ее и заменяла другой. Она прислуживала совершенно голой. Почтительно являла зрелище своей плоти. За едой господа как будто обращали на это не больше внимания, чем на цветочки на тарелках или узоры на рукоятках ножей. Фарфоровые грудки девочки или золотая филигрань, скромно украшавшая низ ее живота, входили в число деликатесов, которыми обходительный хозяин любит потчевать своих гостей.
Перед кофе переходили в гостиную. Анаис дозволялось передохнуть, сидя на табурете, как в первый вечер. Лицом к гостям. То один, то другой расспрашивали ее тогда о том, что она делала в эту неделю, какие отметки получила, в каких отношениях с другими пансионерками. Государственный советник спросил у нее как-то вечером, не выделяет ли она из всех своих одноклассниц какую-нибудь девочку, с которой, например, ей особенно приятно принимать душ… Мсье Чалоян ответил за нее, заверив, что, благодаря его бдительности, она больше не предается «порочным мыслям». И девочка, и наставник удостоились за это горячих похвал.
«Она теперь совсем чистая?» – спросил человек с бородкой. Мсье Чалоян предложил ему удостовериться в этом самому и знаком велел Анаис подняться и подвергнуться осмотру.
Директор вымыл ее как раз перед ужином. Он делал это регулярно и с большим тщанием. Он подозревал, что девочка всегда пытается скрыть где-то грязь. Такова природа этих норовистых созданий: вечно стараться скрыть свои мысли, а также грязь на своем теле, в которой даже стыдно признаться. Одни и те же тайные желания отравляют их ум и пачкают плоть.
Винсент умолк. За его спиной вставало солнце. Черты и сам взгляд моего бывшего товарища остались в ночи. Я его больше не видел, только силуэт на фоне неба, подобный четкому отпечатку следов на снегу.
– Тот мужик просто боялся женщин, – глупо заметил я. – Навязчивая идея о грязи и укрывательстве ясно об этом говорит. Это патологический страх не полностью овладеть той, которую в глубине души он вообще не смеет взять. В таких случаях желание превращается в отвращение и подозрительность.
Винсент пожал плечами и попросил меня оставить при себе мою ученость. Я поздно подумал о том, что он мог быть оскорблен моими словами. Лично задет. Он тоже не посмел притронуться к малышке. Испугался. И все же я добавил, почти против воли:
– Этот мерзавец наверняка так и не взял ее. Он просто не мог ее изнасиловать. Он мог только унижать ее и выставлять напоказ своим друзьям. Демонстрировать им в некотором роде свое всемогущество. Но не заниматься любовью.
– Почем ты знаешь? – усмехнулся Винсент. – Ты что, там был?
– Взял он ее или нет? Анаис сказала тебе?
– Не он, – согласился Винсент. – Он ее отдал. Подарил.
– Своим гостям?
– Нет! Эти, по твоим понятиям, тоже, скорее всего, были импотентами.
Когда они окончательно замкнули девочку в непробиваемый круг услужения, когда убедились в том, что подчинение стало ее второй натурой, вытеснив собой всякий стыд, как и любое проявление страха или сопротивления, они решили довести опыт до конца.
Эти четверо мужчин были людьми из приличного общества, не хамы, не насильники, а гораздо хуже. Анаис предстояло терпеть их самые извращенные фантазии, ее плоть подвергалась оскорблениям на грани вообразимого, но главное, – ей предстояло одной, в глубине души, выносить всю тяжесть этих гнусностей. Разве не она была виновата в том, что с ней случилось? Разве она не повиновалась с первого момента? Разве она тем самым не осуществила свое тайное и давнее желание? Мсье Чалоян знал, что она воровала лишь для того, чтобы ею овладели и чтобы среди всех подозрительных предметов, которые она прятала на себе со странной неловкостью, был обнаружен ее половой орган и предъявлен в качестве улики, ее половой орган сомнительной чистоты, как это продемонстрировал мсье Чалоян, поскольку именно там, в потайной складке ее женственности, копошились змеи и бесы «дурных мыслей».