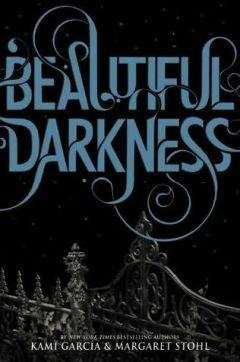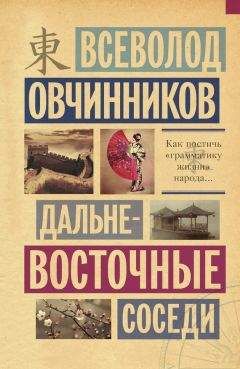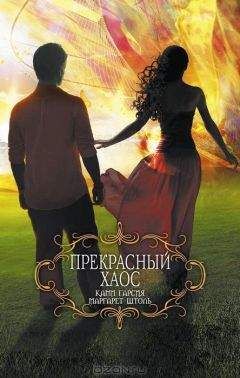Ками Гарсиа, Маргарет Штоль
Прекрасная тьма
Мы можем легко простить ребёнка,
Который боится темноты;
Настоящая трагедия жизни –
Когда взрослые боятся света.
Платон
Раньше я думал, что наш город, погребённый в лесной глуши Южной Каролины, увязший в илистой почве долины реки Санти, находится на полпути в никуда. Место, где никогда ничего не происходило, и никогда ничто не изменится. Точно так же как и вчера, немеркнущее солнце взойдёт и сядет за Гатлином, не соизволив вызвать хотя бы лёгкий ветерок. Завтра мои соседи займут позиции на своих верандах: жара, сплетни и фамильярность будут таять, словно кубики льда в их сладком чае, как и было на протяжении более чем сотни лет. В этих местах традиции были столь устоявшимися, что изменить их было крайне сложно. Они были вплетены во всё, что мы делали или, даже чаще, в то, чего мы не делали. Ты можешь родиться, жениться и умереть, а методисты все так и будут петь госпелы.
Воскресенья предназначались для службы в церкви, понедельники — для совершения покупок в «Стоп энд Шоп», единственном продуктовом магазине города. Остальная часть недели состояла из уймы пустяков, а ещё из пирога, если вам посчастливилось жить с кем-то вроде экономки моей семьи, Аммы, которая каждый год выигрывала на окружной ярмарке конкурс на лучший пирог. Старая четырёхпалая мисс Монро по-прежнему давала уроки кадрили, и один пустующий палец ее белой перчатки все так же трепетал, когда она плавно скользила по танцполу с дебютантками. Мейбеллин Саттер всё так же стригла в «Снип-н-Кёрл», несмотря на то, что она почти ослепла примерно тогда, когда ей стукнуло семьдесят, и теперь она вдвое чаще забывала поставить ограничитель хода на машинку для стрижки волос, выбривая вам на затылке полосу как у скунса. Карлтон Этон никогда, при любой погоде, не отказывал себе в том, чтобы открыть ваше письмо прежде, чем доставить его. И если в письме были дурные вести, то он сам сообщал вам о них лично. Ведь лучше услышать об этом от одного из своих.
Мы принадлежали этому городу, что было и его достоинством, и его недостатком. Он знал нас с головы до пят: каждый наш грех, каждую тайну, каждый недостаток. Вот почему большинство его жителей никогда не помышляли об отъезде, и вот почему те, кто уехал, никогда не возвращались обратно. До встречи с Леной через пять минут после окончания Джексон Хай я стал бы одним из них. Уехавшим.
Но потом я влюбился в Девушку-мага.
Она показала мне, что под трещинами наших шероховатых тротуаров скрывался иной мир. Мир, который был там всегда, спрятанный на самом видном месте. Гатлин Лены был городом, где происходили странные вещи — невероятные, сверхъестественные, меняющие жизнь вещи.
Иногда смертельно опасные.
Пока обычные люди были заняты подрезанием розовых кустов или сбором червивых персиков с придорожных насаждений, Светлые и Тёмные маги с уникальными и могущественными способностями были вовлечены в нескончаемую борьбу — сверхъестественную гражданскую войну без какой-либо надежды на капитуляцию. Гатлин Лены был местом обитания демонов, опасности и проклятия, которое больше ста лет назад оставило отпечаток на её семье. И чем ближе я становился к Лене, тем ближе её Гатлин становился моему.
Ещё несколько месяцев назад я верил, что в этом городе ничто никогда не изменится. Теперь я знал больше и желал лишь одного — чтобы это было правдой.
Потому что с того мгновения, как я влюбился в девушку-мага, все, кого я любил, оказались под угрозой. Лена думала, что она единственная, кто проклят, но она ошибалась.
Теперь это было наше проклятие.
Глава первая
Пятнадцатое февраля. Вечный покой
Капли дождя стекают с полей лучшей чёрной шляпки Аммы. Лена стоит голыми коленями в грязи возле могилы Мэйкона. У меня покалывает шею оттого, что я стою так близко к подобным Мэйкону — инкубам — демонам, питающимся воспоминаниями и снами смертных, таких как я, когда мы спим. Звук, который они издают, вспарывая последний клочок тёмного неба и исчезая перед рассветом, не похож ни на что на свете. Будто бы они были стаей чёрных воронов, в унисон взлетающей с проводов линии электропередачи.
Такими были похороны Мэйкона.
Я мог вспомнить подробности, как будто это произошло вчера, хотя было сложно поверить, что что-то из этого вообще произошло. В этом была вся мудреность похорон, да и жизни в целом, наверное. Важные детали ты полностью блокируешь, но случайные, второстепенные моменты настойчиво преследуют тебя, снова и снова прокручиваясь в голове.
Вот что я мог вспомнить: Амма в потёмках будит меня, чтобы ни свет ни заря отправиться в Сад Его Вечного Покоя. Оцепеневшая и сломленная Лена, жаждущая превратить в лёд и разбить вдребезги всё вокруг себя. Тьма в небе и в половине стоящих вокруг могилы людей, которые людьми то и не были.
Но кроме этого было то, что я вспомнить не мог. Оно было где-то там, пряталось на краю моего сознания. Я пытался вспомнить это со дня рождения Лены, её шестнадцатой луны, ночи, когда умер Мэйкон.
Я только знал, что было нечто, что мне необходимо было вспомнить.
* * *
В утро похорон снаружи была кромешная тьма, но лунный свет, пробивавшийся сквозь облака, освещал мою комнату. В комнате было холодно, но мне было всё равно. Я открыл окно две ночи назад, когда умер Мэйкон, словно он мог вновь появиться в моей комнате, сесть во вращающееся кресло и ненадолго остаться.
Я помнил ночь, когда увидел Мэйкона, стоящего во тьме у моего окна. Именно тогда я и узнал, кто он такой. Не вампир или иное мифологическое существо из книг, как я предполагал, а самый настоящий демон. Тот, который мог бы питаться кровью, но предпочёл вместо этого мои сны.
Мэйкон Мелхиседек Равенвуд. Для местных он был Стариком Равенвудом, городским отшельником. А ещё он был дядей Лены и единственным отцом, которого она когда-либо знала.
Я одевался в темноте, когда ощутил прилив тепла в груди, что означало присутствие Лены.
Ли?
Лена говорила из глубин моего сознания, такая близкая, как никто другой, и почти столь же далёкая. Келтинг — наша невербальная форма общения. Секретный язык, который маги, подобные ей, использовали задолго до того, как моя спальня оказалась по южную сторону линии Мэйсона-Диксона[1]. Это был тайный язык близких отношений и жизненной необходимости, рождённый во времена, когда за то, что ты отличаешься от других, тебя могли сжечь на костре. Это был язык, которым нам не полагалось уметь пользоваться, потому что я был смертным. Но, по какой-то необъяснимой причине, мы могли им пользоваться, и пользовались, чтобы говорить о несказанном и о том, что нельзя выразить словами.