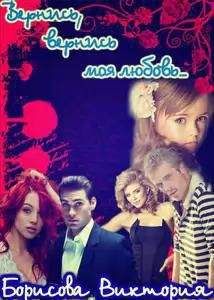Нэд дернулся, словно от удара. Все в нем восставало против. Тяжело ломать себя на закате лет, ох, тяжело. Да только все одно — придется склонить голову перед парнем. Не сейчас только. Позже. Свыкнуться надо с думой этой.
* * *
Утром следующего дня, Нэд все же смог перебороть себя (взяв для того в кулак всю недюжинную волю) и отправил за Клесхом одного из прислужников. Наставник Лесаны не заставил долго ждать. Пришел скорехонько. Лицо спокойное, а глаза, как у кота, сметаны обожравшегося. Глава вновь поймал себя на том, что начинает без причины злиться на креффа, который и слова дурного ему не успел сказать.
— Вот что, голубь сизокрылый, — начал Нэд, с трудом выталкивая из себя речь. — Знатно ты вечор надо всеми потешился. Надо мной особливо. Молчи! — возвысил он голос, видя, что Клесх собирается что-то возразить. — Молчи и слушай. Дерзок ты Клесх. Дерзок, упрям, непочтителен.
Глава замолчал, собираясь с силами и медленно проговорил:
— Но дело творишь. Нет от тебя вреда. За людей и долг радеешь. Пылаешь ты еще в душе. А я, видать, отгорел. Оттого и разум мой пеплом подернулся. На покой мне пора.
Собеседник вскинулся, вознамерившись прервать, но Нэд пригвоздил его взглядом.
— Тебе Цитадель отдам в руки, когда срок настанет. Поясом своим опояшу. Сроду не было, чтобы этакий юнец принял власть. Но и времена изменились. Ты, как зверь, перемену ветра чуешь, тебе и людей за собой вести. Я же, коли не побрезгуешь, иной раз советом либо делом помогать стану, буде в том нужда тебе.
— Будет, — искренне ответил крефф.
— Вот и воеводствуй. Примем девку твою бешеную на креффат, так сразу и тебя опояшу. Но до той поры… — Глава потряс кулаком. — До той поры, чтоб вежество не забывал!
Клесх в ответ усмехнулся:
— Я, Нэд, правду тебе — что до той поры, что после оной — говорить в лицо буду. И воеводским поясом ты мне рот не заткнешь. Нечего меня тут, как пса на привязь брать. И вот что еще. Знаю, не любишь меня. И еще сильнее невзлюбишь, ежели пояс на меня взденешь. Потому как с той поры иначе все здесь станет. Не по-твоему. Думай, словом.
Глава нахмурился и пророкотал:
— Я все сказал. И речей своих назад брать не собираюсь. Кончен разговор наш. А теперь же ответствуй: отчего сорок впустую присылал? Ни в одной деревне мы детей даровитых не нашли.
— Не нашли? — озадачился крефф.
— Нет. Посему отряжай девку свою, пусть проверяет.
— Девка моя домой едет, уже, поди, лошадь седлает. Дай ей время отдохнуть, Нэд, как прочим дают. Я пока сам проверю. На исходе зеленника вернется, там и решим — что к чему.
Смотритель досадливо вздохнул, но согласился:
— Поезжай. Но чтобы к зеленнику оба тут были. Нечего лодыря гонять.
* * *
Лесана поправляла на спине лошади переметные сумы, когда ворота Цитадели распахнулись. Во двор въехала повозка, запряженная пегим коньком с белыми щетками на толстых ногах. В повозке сидели несколько странников, а поводья держал мужчина лет сорока, облаченный в серое одеяние.
Колдун легко спрыгнул с облучка и повернулся к сопутникам:
— Ну, вылезай, наказанье мое, — беззлобно сказал он кому-то и протянул руку.
Зацепившись за широкую ладонь, на землю спрыгнула из возка чудная девка. Кудлатая, простоволосая, в диковинном платье, скроенном будто бы из малых отрезов разрозненных тканей — пестром, мешковатом, кривом. Плетеная опояска была грошевой — свитой из обычной пеньковой веревки, а уж привесок на ней…
Выучи поглядывали на странную пришелицу, а она озиралась, кутаясь в потертый весь в заплатках кожушок, и улыбалась застенчиво.
— А ты не ругайся, не ругайся, родненький, — ласково и часто-часто заговорила незнакомка, — не ругайся на меня. Я — вот она — стою. Намаялся, поди?
И она погладила колдуна по плечу, ласково приговаривая:
— Намаялся, родненький. И день едем, и вечер, и все едем и едем, едем и едем… А гляди, я тебя утешу, — с этими словами блаженная сняла с пояса одну из привесок — глиняную некрашеную бусину. — Смотри красивая какая. На. Бери, не жалко мне.
Колдун только рукой махнул и отвернулся, подзывая кого-то из молодших:
— Веди, распрягай. Да девку не тронь, ежели увяжется. Гляди только, чтобы за ворота не потащилась.
Паренек понятливо кивнул. Лесана же приостановила кобылку, глядя на каженницу. Та вся была какая-то нелепая — в пепельные кудри вплетены без порядку и гребня цветные нитки с привязанными к ним перышками, неровными бусинами, обрывками ткани, на опояске болтаются на подвязках разной длины все те же перышки, увядшие цветы, палочки, еловые и сосновые шишки.
— Родненькая, — обратилась к воительнице девушка, глядя снизу вверх. — Место темное тут у вас. Холодное. И ты, вон, озябла.
Выученица Клесха с удивлением смотрела в лицо собеседнице. Девушка оказалась миловидной, с пухлыми губами, курносая, но глаза… темно-карие с широкими синими дольками в каждом. Безумные, дикие, словно не человек смотрел, а зверь. И в зрачках, будто искры просверкивают.
— Ты чья будешь? — слегка наклоняясь, вглядываясь в незнакомку, спросила Лесана.
— А ничья. Ничья уже, миленькая. Сама своя. Тоже вот, как ты зябну… — и она потерла узкие плечи. — Зябну…
— Иди в Башню целителей, — сказала ей воспитанница Цитадели, видя, что блаженная забеспокоилась. — Там тебе питья горячего дадут. Мигом согреешься. Иди, иди…
Дурочка закивала, торопливо закланялась:
— Ой, пойду, пойду, родненькая, а ты сама-то как же?
Ратница улыбнулась:
— А я не зябну.
С этими словами она тронула поводья, принуждая кобылку идти со двора и гадая про себя — возьмутся ли Ихтор, Руста или Майрико лечить каженницу от помутнения рассудка? Девушка была хорошая — добрая, с открытым лицом, теплой улыбкой и ямочками на щеках. Таких в Цитадели редко видывали.
Тяжелые створки ворот закрылись за спиной у Лесаны, и уезжающая не заметила, каким долгим, полным тоски взглядом смотрит ей в след блаженная странница.
— Как же не зябнешь, родненькая, — шептали пухлые губы. — Я же вижу — во льду ты вся.
С этими словами дурочка забеспокоилась, закружила по двору, не замечая глумливых насмешек послушников-парней. Она, словно заплутала: глядела то на одну высокую стену, то на другую. Потом замерла, прислушиваясь к чему-то, и вдруг… суета и дрожь слетели с нее. Уверенной походкой девка отправилась к дверям главной твердыни — многоярусной каменной громады.
— Иду, иду… Иду… — шептала странница, спеша по каменным переходам. — Иду…
Она шла и шла, будто давно знала путь, будто бы уже бывала тут ранее, шла, запрокинув голову и, словно слыша неведомый зов.