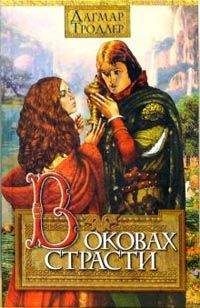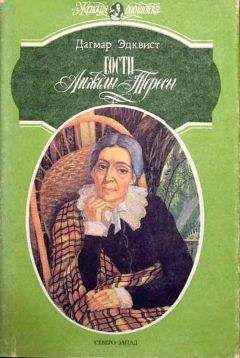Ночи в палатке Тассиа, казалось, не будет конца. И все же я перенесла ее, как водяные волны, которым лишь смотрят вслед, не пытаясь их удержать. Ни одно слово не могло избавить меня от боли. Я зарылась лицом в подушки, мягкие и холодные, льнущие к моей голове, словно рука. Его рука…
Сколько времени он просидел передо мной на корточках, с растрепанными волосами и бледным лицом, положив руку на мою голову? Почувствовав его присутствие, я повернулась на другой бок. Он издал какие-то звуки на своем варварском языке — по всей видимости, просьбу о прощении, а может, то были лишь ругательства на виновника всех горестей, о которых я еще не знала. У меня не было сил убежать или прогнать его. Как это уже было однажды, время замедлило свой ход. Его глаза, красные от слез, неподвижно застывшие от выпитого вина, не отрываясь смотрели на меня.
— Невелико счастье связаться со мной…
Его голос, надрывный и дребезжащий, заставил меня вздрогнуть, и я вновь зарылась лицом в подушки, подавив в себе крик глубокой печали.
— Ты не сможешь вынести холодов, возлюбленная моя…
Голос приблизился и оборвался. Я высвободилась из холодных объятий шелковых покрывал, почти что страстно желая взглянуть в его глаза, и тут наши взгляды встретились, шум в моей голове прошел.
— Тебя знобит, любимая…
Эрик попытался залечить нежностью мои раны. Его преданность заставила меня забыть о том, чему свидетельницей была одна луна, — король Никто и Ничто разделил со мной брачное ложе, которое уже было обещано другому. И как только забрезжило утро, я нашла в себе силы сказать слова, которых ему пришлось так долго ждать.
— Я отпускаю тебя.
Лампа Тассиа погасла в тот самый момент, как только Эрик склонился надо мной, чтобы в последний раз коснуться моих губ.
— Самая любимая, ты… моя жизнь…
И бесшумно, как тень, как привидение, исчез в сумерках наступающего утра, вернув меня в царство Тассиа из шелка и розовой воды.
Я вздрогнула, почувствовав на своих плечах чье-то прикосновение. Надо мной склонился мастер Нафтали.
— Ты страдаешь от любовных терзаний, дитя мое. Пусть любовь исцелит твою душу и придаст тебе сил. А теперь тебе нужно вставать, начинается новый день. Пойду распоряжусь приготовить тебе все для купания, помойся, прежде чем уйдешь отсюда.
Он тихо удалился.
Я с трудом повернула голову. Место рядом со мной было холодным, будто там и вовсе никто никогда не лежал. Зато я обнаружила целое море цветов, которые источали аромат такой свежести, словно кто-то сорвал и принес их сюда только что. Его не было. Не веря самой себе, я терла глаза руками.
Мне показалось, что стенки палатки вот-вот обрушатся на меня, когда я осознала произошедшее. Одна. Я ощутила душевную боль почти физически, я окунулась в нее с головой, свернулась в клубок, съежилась и накрылась влажным одеялом. Одна! Я тихо раскачивалась из стороны в сторону. Рука скользила по матрасу в напрасном желании обнаружить его — и среди множества цветов нащупала какой-то предмет.
Я села, вытерла глаза и стала рассматривать то, что оказалось в моих руках: то была цепочка с серебряной подвеской. Руны, рассказывающие о судьбе. Серебро утешающе блестело в свете лампы. Он оставил мне свой амулет, полученный им при рождении. Мои слезы закапали прямо на отдающую блеском пластину, медленно, жемчужинами скатываясь вниз прямо на одеяло.
Слуга еврея приготовил мне благовония для купания, чтобы я по религиозному обряду очистилась от соков ночи. Вода была горячей и благоухала лимонной мелиссой и мятой, и мысли мои воспарили с водяными парами ввысь, так и не превратившись в слова. Тассиа в последний раз, потчуя меня молоком с пряностями, протянул наполненный бокал и ушел с печальной улыбкой.
Дорогу до замка я проделала как во сне. Храпящие стражники, спящие солдаты, чавкающие и что-то хрюкающие, бурчащие себе под нос, наевшиеся до отвала еще с вечера, они не заметили меня. Во дворе что-то промелькнуло за повозкой с сеном. Пыль поднялась столбом. Я испугалась. Кто подстерегает меня? Они наблюдают за мной? Трясущимися руками я спрятала амулет и проскользнула к себе в кровать.
То не было сном, дарованным Богом, но на бодрствование походило еще меньше. Я лежала в кровати в бесконечных метаниях между тем, что произошло, и действительностью в образе Майи. Она, как и каждую ночь, хрипела, точно умирающая.
Мне не удавалось представить его лицо. Я чувствовала пряди волос, которыми он щекотал мою грудь, его дыхание. Но его лицо, обезображенное и темное в тот момент, когда над нами совершали насилие и он кричал в ночи имя моего отца, требуя возмездия, — это лицо его навсегда осталось в моей памяти белым пятном.
И я сказал: «Кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы».
(Псалтирь 54,7)Наутро отец открыл башню. Я вновь получила свободу. Но на посещение лаборатории еврея все же был наложен запрет, отец не хотел рисковать, чтобы моя доказанная перед всем миром благопристойность вновь могла оказаться под вопросом. Я видела Нафтали лишь тогда, когда он приходил к Эмилии. Его посещения всегда волновали меня: видеть его означало вспоминать все с болью и тоской, но когда он просил меня помочь ему смешать настойки у кровати больной, я, как и прежде, занималась бутылочками и порошками, и мне казалось, что от них исходит благостный покой и ложится на мою душу, прогоняя напряженность. Мы обменивались с ним всего лишь несколькими словами, ведь за нами наблюдали горничные: они лишь изредка отходили от меня.
Одна из них вела за мной слежку, докладывая обо мне аббату. Она увидела розу, которую я тайно вынимала на свет Божий. Кто знает, что она еще выведала? Может быть, обнаружила и скрытое от посторонних глаз железное кольцо за широким кирпичом в стене?
Я ощутила ни разу не изведанное мною чувство одиночества… Будущее представлялось мне вязкой трясиной из меда и яда. Рыцарь, который хотел бы взять меня летом из Берга с собой и перед которым я теперь почти ежедневно сидела за отцовским столом, заслужил уважение церкви и таким образом указал мне то место, которое предопределено мне в жизни. Он оказывал мне надлежащие знаки внимания, приносил подарки, какие следует преподносить даме благородного происхождения, — ленты, тесьму и даже маленькую собачку, тявканье которой очень скоро стало действовать на нервы, — но в остальном он относился ко мне так, будто все это не более чем приятное развлечение. В его присутствии я чувствовала себя как тело, не имеющее голоса. Отец принимал мое молчание с благосклонностью, и это было доказательством того, что его намерения поскорее выдать меня замуж были верными.