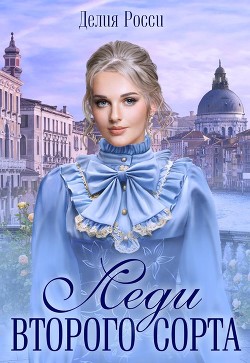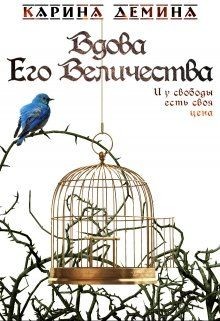Всех интересует, не хочу ли я вернуться в Москву. Сдержанно отвечаю – нет, пока не хочу. То-то бы они удивились, если бы узнали, что я уроженка этих мест. А в Москву мне ехать нельзя – там, наверно, много людей, которые слишком хорошо знают настоящую Анну Николаевну, чтобы принять меня за нее.
Я бывала на исповеди и прежде. И не единожды. Но сейчас испытываю такое волнение, как будто делаю это впервые. К сожалению, я не могу рассказать отцу Андрею всего, что мне хочется рассказать. Боюсь, он не поймет и не поверит. Но я стараюсь не отступать далеко от правды. Признаюсь в гордыне (а она, увы, была мне свойственна там, в нашем времени), во лжи и в том, что я скрыла от правосудия убийцу графа.
Не знаю, должна ли я была рассказывать об этом священнику, но мне необходимо было с кем-то этим поделиться.
– Значит, это были не каторжники? – печально спрашивает он.
Мне кажется, он и сам об этом догадался.
– Если их поймают и обвинят в том, чего они не совершали, я обещаю вам, отче, что скажу правду. Они не должны отвечать еще и за чужие грехи.
– Да-да, конечно, это будет правильно, – одобряет он.
А когда он читает разрешительную молитву, я уже почти ничего не вижу из-за слёз.
Впрочем, плачу после исповеди не только я. Варя тоже шмыгает носом.
Зато после службы и причастия мы обе испытываем тихую радость и идем домой молчаливые, словно боимся в разговорах эту благодать расплескать.
Традиции ставить елку на Рождество здесь еще нет, и мое предложение поначалу встречается настороженно.
– Читал я о чём-то таком в выписанном из Петербурга журнале, – Назаров с сомнением качает головой. – Но сам ничего подобного не видел. По-моему, баловство одно.
Но я уже велю мужикам ехать в лес – за елкой. А самого Назарова отправляю в уезд – за украшениями для нее и за подарками для гостей и слуг. Он, хоть и ворчит, но едет. И возвращается с несколькими битком-набитыми корзинами и коробками.
– Ох, и озадачили вы меня, Анна Николаевна, – сетует он, отпиваясь чаем с дороги. – Я ведь не любитель ходить по кондитерским да по магазинам.
Ёлку устанавливают в гостиной в самый Сочельник, и я сама принимаюсь за ее украшение. Слугам строго-настрого запрещено входить в комнату до самого праздника. Для них это тоже будет сюрприз.
Я развешиваю на ветвях фонарики, конфеты в ярких обертках, засахаренные фрукты, пряники, игрушки, орехи. Сверху разбрасываю вырезанные из серебристой парчи снежинки. Красота!
Весь дом уже наполнен хвойно-пряничным ароматом. Любопытная Стешка пытается заглянуть в замочную скважину, чтобы увидеть, что происходит в гостиной. Но я только щелкаю ее по носу и отправляю на кухню. Под елкой лежит подарок и для нее. Надеюсь, она будет рада.
Мы возвращаемся ночью с праздничного богослужения, а на столе уже стоят такие яства, от одного взгляда на которые текут слюнки. Кухарка Лукерья Ильинична расстаралась. Тут и запеченный с кислой капустой гусь, и свинина с хреном, и холодец, и пироги со всевозможными начинками.
Но сесть за стол мы не успеваем – с улицы доносятся тонкие, но громкие детские голоса.
Ты, хозяйка, не томи,
Поскорее подари!
А как нынешний мороз
Не велит долго стоять,
Велит скоро подавать:
Либо из печи пирог,
Либо денег пятачок,
Либо щей горшок!
Подай тебе Бог
Полный двор животов!
И в конюшню коней,
В хлевушку телят,
В избушку ребят
И под печку котят!
Мы выскакиваем на крыльцо – целая ватага ребятишек пришла колядовать. Одеты плохонько, но лица у всех светлы и радостны.
Для таких вот гостей Лукерья Ильинична уже тоже напекла сладких пряников, и я одаряю каждого – и пряниками, и конфетами. Дети – замерзшие, но довольные, – шмыгают носами.
А я понимаю – вот он, тот самый момент, когда нужно показать всем елку. И я, взмахом руки позвав ребятишек за собой, устремляюсь в дом.
Сухарева в ужасе – снегу нанесут, ковры потопчут. Да и сами гости идут с опаской – наверно, никогда прежде в господском доме не бывали.
Я распахиваю двери гостиной и ожидаемо слышу дружное «ах». Елка сияет огнями фонариков и свечей. Восторг, который я вижу на лицах и детей, и слуг, невозможно описать словами. Я вижу, как украдкой вытирает слёзы даже доктор Назаров, и чувствую себя почти счастливой.
15. Святочные гадания
Святки в Даниловке проходят шумно и весело. Дети колядуют, молодежь ходит по деревне с балалайками и гармонями, а девицы еще и гадают.
Сама я в этих забавах участия не принимаю – гадать одна боюсь, а выдать кому– то свои тайны не решаюсь. После того, что случилось, я уже ничему не удивляюсь.
А вот дворовые девушки гадают с удовольствием. Кладут гребни под подушку, капают растопленным воском на воду, вытаскивают поленья из дровниц. Хохочут так громко, что мне слышно их даже при закрытых окнах.
А для самого интригующего гадания они собираются на кухне. Ставят свечи, зеркала. «Суженый-ряженый, явись ко мне наряженный». Даже я, снедаемая любопытством, прихожу на них поглядеть.
– Анна Николаевна, садитесь с нами! – приглашает Сухарева.
Но я качаю головой и устраиваюсь чуть поодаль. Интересно, что бы они сказали, если бы в ответ на мой запрос зеркало показало принца на лексусе?
Вот в отражение в зеркале вглядывается побледневшая взволнованная Варя. Для нее, в отличие от жены управляющего, это – не баловство. Она своего суженого еще не заарканила.
– Нету там никого, – шепчет она.
– Смотри, смотри лучше! – советует Анастасия.
Остальные девушки хихикают, переглядываются, но я вижу – они тоже нервничают. Для каждой из них замужество – слишком важный шаг. Тем более, что отнюдь не все они выйдут замуж по любви. Большинству из них выбирать суженого по сердцу никто не разрешит.
– Ах! – вдруг вскрикивает Варя и взмахивает рукой – будто прогоняет кого-то. – Не он!
– Что? Что, Варюха? – суетятся подружки. – Что показалось? Да говори же ты, не томи!
Но Варя не может вымолвить ни слова. Губы у нее дрожат, а по щекам текут слёзы. Так она и выбегает из кухни, никому ничего не сказав. А следом за ней выскальзывает и Стешка, невесть как пробравшаяся на такое взрослое мероприятие.
Веселье затихает. Никто из девушек не решается подойти к зеркалу.
– Говорила вам – остерегитесь! – качает головой кухарка Лукерья Ильинична. – Нет, всё вам надо знать наперед. Идите вон лучше за околицу – валенки бросать. Ночь лунная, дорогу хорошо видать.
Девушки шумной стайкой выбегают на улицу. Сухарева отправляется спать. Мы с Лукерьей Ильиничной остаемся на кухне одни.
– Вот ведь дурехи! – не унимается она. – И ведь всякий раз этим заканчивается. Как-то одна девка до того догадалась, что рассудка лишилась. Тоже про жениха узнать хотела. Уж не знаю, показалось ли ей чего, или от своих дум умом тронулась, но только замуж она так и не вышла. Оно и понятно – кто к болезной посватается.
– А что же Варя увидала? – я не люблю сплетничать, но спать мне еще не охота, а кухарка как раз взялась кипятить молоко, а для меня молоко с медом – лучшее средство от бессонницы.
Женщина хмыкает:
– Знать, не того увидала, кого хотела. Она, вишь, жениха-то себе уже придумала.
Я знаю, о ком идет речь – о том самом бородаче, который, будь я чуть порешительней, уже томился бы в остроге.
– А может, и ничего, что она другого увидала, – говорю я, прикладывая ладони к горячей глиняной кружке. – Тот-то, другой, может не в пример лучше.
Лукерья Ильинична тоже садится за стол – правда, на почтительном от меня расстоянии. Вздыхает:
– Нет, ваше сиятельство, Кузнецов-то ведь – человек хороший. И статью вышел, и норовом. А уж в поле работает – залюбуешься. Не зря Варвара по нему сохнет.
Мне трудно с ней согласиться. Мне вообще кажется, что мы говорим о разных людях.
Помочь мне приготовиться ко сну в эту ночь приходит не Варя, а Стешка.