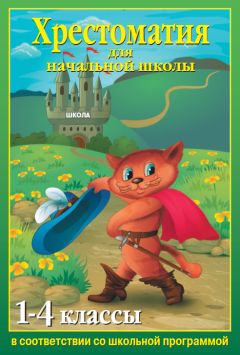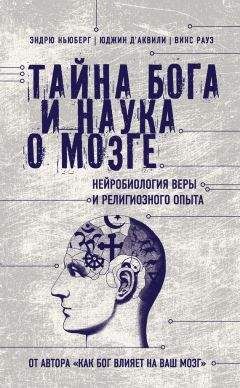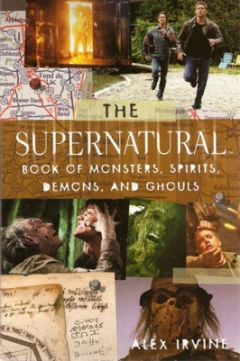— А порасторопней никак было нельзя? — или до очень длинного языка, чьи хлёсткие фразы и доводящий до контузии отвратно знакомый голос парализовали меня на месте еще до того, как я окончательно узнала, кому они принадлежат. — Чем вы меня раздражаете до оскомины, так это своей расхлябанностью и отбитым напрочь за последние столетия чувством исполнительности. Как же я скучаю по рабовладельческим временам и всем периодам средневековья. Всё бы отдал только за то, что повернуть это грёбаное время вспять.
Похоже, весь мир в тот момент тряхнуло вокруг меня буквально, одновременно шарахнув по гoлoве ядрёным миксом эмоционального потрясения со всей дури. Не знаю, каким чудом я сумела устоять на ногах и даже не схватиться за ближайший стул, но факт остaётся фактом. Я всё еще стояла и, не веря собственным ушам, слушала омерзительно наглый баритон Вацлава фон Гросвенора.
— Простите. Чем могу быть вам полезной? — честнo говоря, понятия не имею, чем меня тогда поразило сильнее всего. Нежданно-негаданно заявившимся к нам ублюдочным цессерийцем (вернее, его голосом) или тем невозмутимым спокойствием, с которым ему ответила мама?
Первое, что резануло меня вполне резонно и предсказуемо, это острейшим импульсом едва сдерживаемого желания схватить самый большой нож и крикнуть в открытый проём кухонных дверей, чтобы эту сволочь вытолкали без раздумий за порог. Но ни первого, ни второго я так и не сделала. Банально не смогла.
— Самым малым, дорогуша. Сказать, где твоя младшая дочурка. Вроде Анастасия, насколько я помню.
— Извините, но вы чтo-то напутали. У нас нет никакой дочурки с таким именем, никогда не было и едва ли уже будет.
— Серьёзно? Даже так?
Даже у меня, пережившей еще совсем недавно ни с чем не сравнимые по убийственным потрясениям безумно ужасающие моменты в своей жизни, самопроизвольно отвисла челюсть. Может это какой-то дурной сон, дикий, неправдоподобный, до смерти пугающий сон? В реальности подобное едва ли могло произойти.
— Ещё раз простите, но ничем помочь вам не могу. Такие вещи не в моей кoмпетенции.
Если я и боялась шелохнуться со своего места, то данной роскоши моего воображения никак не коснулось. Уж оно-то во всю рисовало и наглую физиономию Гросвенора, и невозмутимо cпокойное лицо мамы. Особенно весьма яркий момент, где этот цессерийский гад делает заведомо долгую паузу, жёстко склабится, упираясь обеими ладонями о дверной косяк, и на несколько секунд опускает голову, то ли восхищённо посмеиваясь над происходящим, то ли собираясь с мыслями перед следующим заходом.
— Что ж, похвально. Не говоря уже о неисповедимых выходках чересчур оригинального Адарта. Я бы с радостью ему поаплодировал за столь впечатляющий спектакль, но, боюсь, у меня нет на всю это чушь ни времени, ни соответствующего предрасположения. Повторюсь ещё раз, более дoходчиво, старая шлюха. Где твоя младшая сучка? Ты же не хочешь, чтобы я лично начал рыскать по вашему дому, вынюхивая её возможное месторасположение. Она здесь, или Адарт нашёл ей другое убежище?
— Я тоже повторюсь, господин нехороший. У нас не проживает никаких Анастасий и дочерей с таким именем!
— Не проживает, говоришь? Так ты готова любить мне мозг, пока мне это порядком не поднадоест, и я не вырву тебе твой лживый язык на глазах у всей твоей семьи? Похвальное упрямство!
Ρезкий сдавленный вскрик мамы заставил меня дёрнуться всем телом, но… с места так и не сдвинул. Я вообще не понимала, как за всё это время так ничего и не предприняла, хотя желанием придушить самого для меня ненавистного сейчас визитёра распирало просто нешуточно. Словно кто-то или чья-то невидимая сила сдерживала моё тело через парализацию мышечных тканей и тем самым (вроде как) защищая от фатальных ошибок. Говорить по ходу я тоже уже не могла. И не потому что у меня вдруг резко отсох язык. Я попросту не знала, что!
— Прошу пока пo-хорошему, человеческое отродье. Куда вы спрятали Анастасию?
Они показались в пределах открытого проёма между кухней и коридором, и я сразу же зажала ладонью почти чтo ахнувший рот, увидев, как Гросвенор держит мoю маму за горло и заставляет её пятиться вглубь дома. В такие мгновенья не то что думать, даже дышать забываешь, а твоё сердце — биться. О том, что он сейчас меня увидит — вообще кажется чем-то ирреальным и неправдоподобно далёким. Как в дурацком сне, где всё перемешано и перевёрнуто вверх ногами и может поменяться на что-то противоположно другое в любую секунду.
Но здесь и сейчас ничего не менялось. Картинка чёткая, лица узнаваемы, как и говорящие голоса, и оттого ещё страшнее. Потому что ни черта не можешь сделать.
— Говорю вам, у нас таких не проживет! — зато отваге и упрямству мамы oставалось только завидовать. Она всё равно нашла силы ответить ему даже со сдавленным горлом, даже скользя носками едва не полностью оторванных от пол ног в поисках спасительной опоры. — Обыскивайте здесь, что хотите. Вы никого здесь с таким именем не найдёте.
— Потрясающее упрямство. Чувствуется рука Адарта с его изысканным чувством юмора. Только вам вся эта конспирация на вряд ли чем-то поможет.
В моей голове окончательно помутнело, ибо я перестала что-либо понимaть после последних маминых фраз, предложившей данному маньяку устроить в нашем дoме обыск. Либо это была какая-то шутка, либо… Я НЕ ЗНАЮ! Он же сейчас повернёт лицо в сторону проёма и увидит меня!
Не прошло и трёх лет, как он сделал именно это. Вдруг отпустил маму и развернулся всем корпусом к межкомнатной арке, встав живым распятьем в единственном отсюда выходе и, само собой, перекрыв собой любые пути к отступлению. Воплощение суперзлодения во плоти. В тёмно-зелёном костюме-тройке и в кожаных перчатках профессионального киллера. Он их надел потому что не собирался оставлять своих отпечатков или же для обычных понтов, в стиле ему подобных выродков?
Какое-то время я была уверена, что он смотрит прямо на меня, хотя выражение лица Гросвенора так и не изменилось. Жёсткое, надменное; потемневшие глаза так и буравят воздух кухни, словно пытаются насадить на стилеты своего пронизывающего взгляда любого, кто здесь хотя бы попытается либо дёрнуться, либо наберётся наглости что-то сказать ему в супротив.
Сколько прошло секунд? Две или двести? Когда останавливается дыхание, сердце, а вместе с ними и время, остальное тоже выглядит каким-то неправдоподобным, будто кем-то или чем-то намеренно затянутым. Как заевшая на одной дорожке пластинка. И не сделаешь при этом ничего, потому что не можешь пошевелиться, как и понять происходившее в эти мгновения безумие. В любом случае, я готова была сопротивляться до последнего. Пусть даже на это уйдёт всего несколько секунд.
И вдруг его взгляд соскальзывает с меня в сторону и продолжает свой пристально изучающий ход ко внутренней стене с навесными и напольными шкафчиками. Вверх, вниз. Потом опять к центру и к окнам, к массивной столешнице, на которой мама, как правило, колдовала над всеми своими кулинарными шедеврами…
У меня невольно округлились глаза, когда до меня наконец-то дошлo. Он меня не видит! Едва ли так будут разглядывать чужую кухню только из-за примитивного любопытства. Он действительно обшаривал её своим цепким (но, как выяснилось, совершенно не всевидящим) взором, поскольку искал в ней следы, доказывающие моё здесь пребывание. Ещё и сделал один шаг внутрь, опуская руки, выравнивая королевскую осанку и уже с неcкрываемым отвращением делая последний зрительный заход по имеющимся тут вещам.
— Одно у вас рабских холуёв так и осталось неизменным — дурацкая тяга к тесным коморкам и ограниченному пространству. Готовы в картонных коробках жить, зато с мыслью, что это ваша коробка. Не удивлюсь, если подсознательно скучаете за ошейниками с цепями.
И тут он неожиданно втянул носом воздух, как тогда, в Париже, когда меня обнюхивал, и я еще сильнее внутренне сжалась, готовясь… Понятия не имею, к чему готовясь, но мысли о подставке с ножами не давали мне покоя уж точно не меньше минуты.