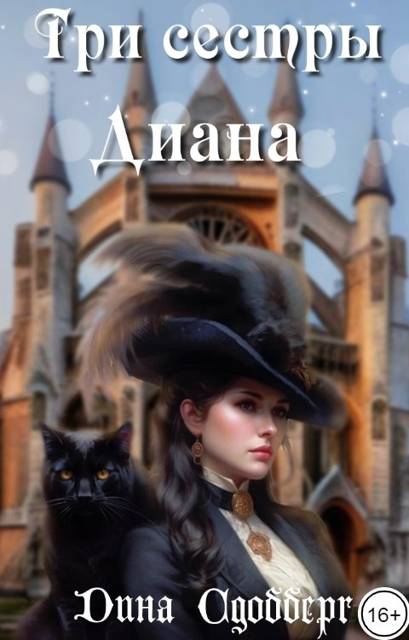со мной улицам, ходили герои.
Уходить я действительно не боялась. Вот оказаться запертой в немощном теле, прикованном к кровати, это страшно. Обе своих частичных парализации я вспоминала с ужасом. И верила, что вставала благодаря и ради Альки. А сейчас почему-то поселилась уверенность, что Костлявая решит в этот раз последнее слово оставить за собой.
Я смотрела в окно на заснеженные ели, а видела только-только начавшие цвести молодые яблоньки, посаженные отцом.
Как и у многих в моём поколении, моё детство закончилось в сорок первом году. Ещё вчера, совершенно беспечные, мы носились стайками вдоль улицы, с холма к реке, к небольшой заводи, где всей лопатинской малышнëй ловили раков, в лесок, чтобы присмотреть уже подходящие ягодные полянки.
Или помогали родителям. В каждой семье, у каждого её члена, даже самого маленького, были свои обязанности. И все всегда были при деле.
— Никогда не смотрите на то, кто и как живёт. Не говорите, что вот они богатые, — учила нас бабушка, вдова потомственного ростовщика из еврейских переселенцев. — А когда хочется так сказать, всегда вспоминай, что обсуждая чей-то достаток, ты говоришь о собственной лени и глупости. Богатство под ногами лежит, его всего-то и надо, что поднять. Но спину погнуть придётся.
Эти слова мы с сёстрами друг дружке и повторяли, когда собирали небольшие камни-окатыши и выкладывали ими дорожку вокруг забора на метр, широкую площадку перед воротами, дорожку от ворот к дому, бане, сараям, леднику. Чтобы грязи возле дома и на дворе не было.
— Что, девоньки, спина никак болит? — спрашивала бабушка.
— Ага, — кивала я, утаптывая камни в подготовленной для этого небольшой канаве.
— Зато дом со стороны смотрится красивым и богатым. — Фыркала Тося. — Это от богатства спину ломит!
— Нет, это от жадности. Могли бы и не поднимать эти камни, не таскать, и не укладывать. — Усмехалась бабушка.
Такие её присказки почему-то запоминались. Просто врезались в память, и гораздо надёжнее, чем всякие поучительные нравоучения.
И буквально за день мы стали взрослыми. Маленькими по возрасту и росту, но постаревшими в душе. Мы взрослели, провожая отцов и братьев на фронт. Коротая время в тревожном ожидании почты. Видя почерневшие лица своих односельчан, получивших похоронки. Замирая у приёмников, когда звучали слова, останавливающие всё вокруг.
«От Советского Информбюро»…
Мы старели, слыша, что неся тяжёлые потери отступили какие-то части, о продвижении немецких войск, что означало, что наши войска отступили. Или уничтожены, или попали в плен. Мы точно знали, в каких частях служат наши. И не только родные, но и соседи. Но переживали за всех. И неважно в тот момент было, что речь идёт о совершенно незнакомых нам людях. Это была общая боль. Одна, но разделённая на миллионы людей.
Много позже я в мыслях часто возвращалась в то время. Мне казалось, что огромный подвиг всего народа, всей страны зарождался в тех самых моментах и в этой общей боли. И победа, и восстановление почти половины страны из руин и попелища, и стройки, и резкий рост достижений всего и вся… Всё это рождалось в напряжённой тишине у приёмников, под голос Левитана.
Но тогда… Я рыдала. Уткнувшись в холодную стену дома, среди грязного и просевшего мартовского снега. В тот момент, мне казалось, что я ненавижу весь мир. За его несправедливость. За эту войну. За эту похоронку на отца. Моего сильного, умного папу. Может он и выглядел старше своих лет, но у него за плечами уже была одна страшная война, ранение, болезнь. У него было слишком много морщин и усталый взгляд. Но когда папа улыбался, казалось, что всё вокруг становится иначе, светлее и проще. А уж когда отец брал в руки гармонь…
Первое время после похоронки я постоянно натыкалась на бабушку. В школу иду, и бабушке вдруг пройтись приспичило. А ходила она с палочкой. Точнее с тяжёлой такой тростью, высокой. Больше похожей на посох.
— Боярыня наша, столбовая, — беззлобно хмыкали ей в след односельчане.
— Да не столбовая, а Сдобнова, — смеялась бабушка Нателла или Наташа, как её звали односельчане.
Сижу на занятиях, бабушка мимо окон гуляет. На реку пойду, и она за мной.
— Ба, ты чего? — не выдержала как-то я. — Сторожить что ли вздумала?
— А то нет? Ты ж на норов дурная, да и возраст самый тот, когда уже семя сильными, умными и самыми-самыми мнят. Отец твой примерно в твои годы из дома и сбежал. И тоже на фронт. — И не думала скрывать и юлить бабушка. — Или думаешь, что про ножики твои припрятанные я не знаю? Ты мне скажи, ты что с этими ножами против пули делать будешь?
Стерегла меня бабушка, стерегла, а старших упустила. Аня ушла почти сразу, Тося чуть позже, через год. А семья осталась на мне. Ну как семья, мама и бабушка. Не знаю, как вышло, но я себя чувствовала в ответе за них. Может, из-за слов обеих сестрёнок перед их уходом, чтобы берегла маму и бабушку. Может, из-за примера соседа, одноклассника и друга, живущего в доме напротив огненно-рыжего Генки Перунова.
Там от семьи с тремя сыновьями осталась только мать, младшая сестрёнка Раечка и он сам, пацан пятнадцати лет. Но он уже был в доме за «мужика». И дрова рубил, и воды таскал, и снег чистил, и рыбу ловил и сушил, и в лес ходил, и огород копал, и по дому где что надо ремонтировал.
Речка у нас была небольшая, но рыбная. Во время войны она хорошо выручала деревню. Рыбу ловили и часть ели, часть заготавливали. Солили и сушили до деревянного состояния, чтобы она пролежала как можно дольше. А потом, зимой закидывали эту рыбку в кипящую воду и варили похлёбку. Такая сухая рыбная консерва.
Вот и я стала дома за такого «мужика». Убиралась, старалась как и все, за лето и осень собрать побольше запасов и трав. Лекарств было мало. К счастью, моя мама умела работать с реагентами и получать необходимое, проводя различные реакции. Она всегда говорила, что всё подробно расписано, и нужно лишь прочитать и повторить. Поэтому к нам в Лопатино в аптеку ехали даже из соседних деревень. Но и травяные сборы мама составляла, и готовила различные травы, чтобы зимой можно было сделать отвар.
— Ведьма наша, аптечная, — называли её в селе.
Злобы