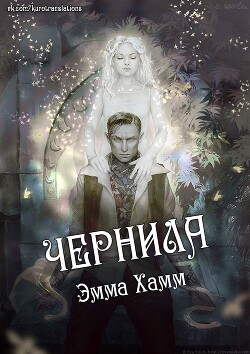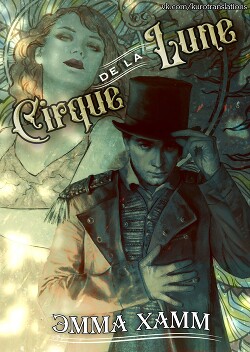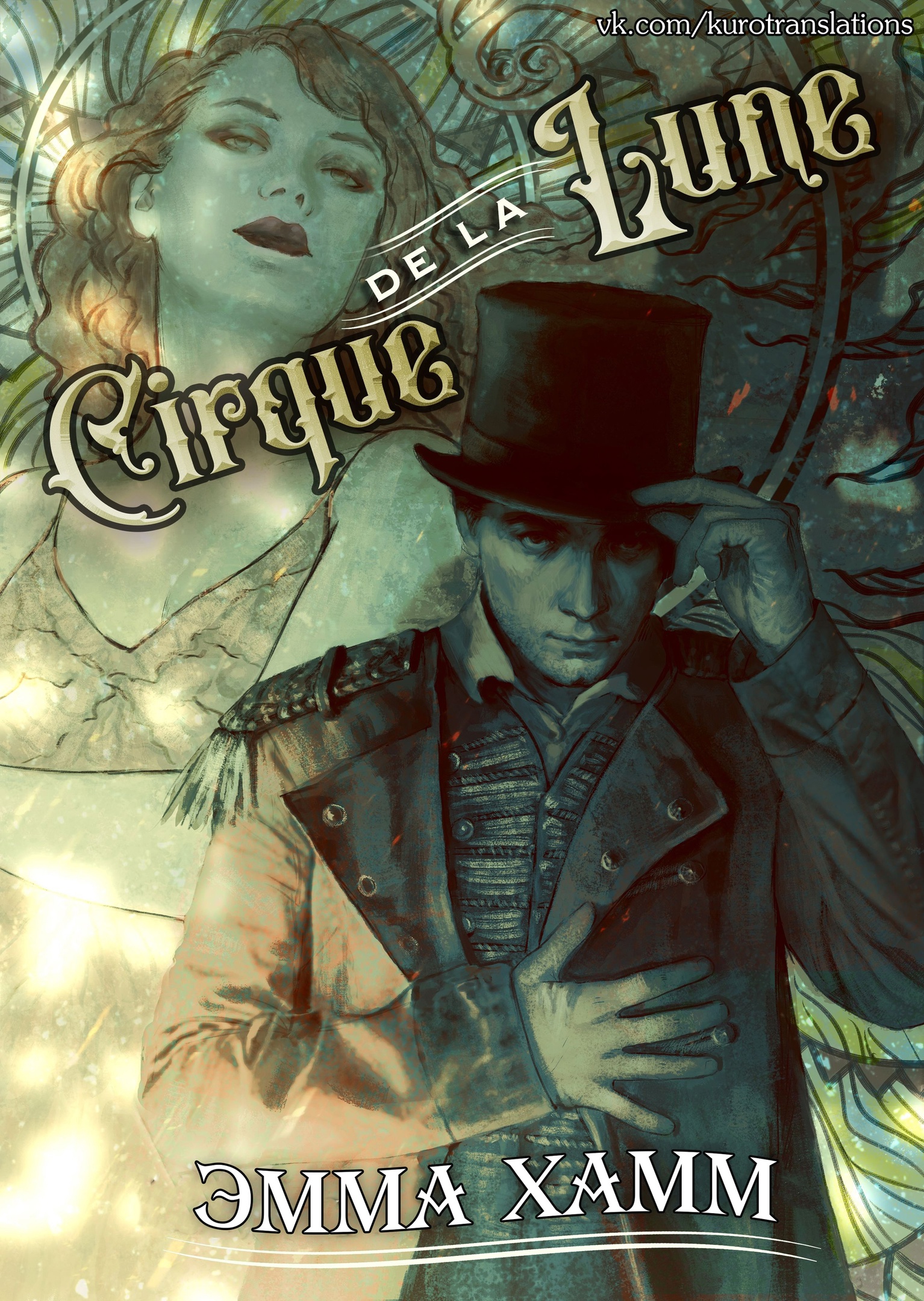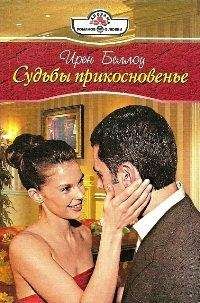Он не мог нормально действовать под солнцем. Он предпочитал свет луны. Тьму. В тенях он мог скрыться от пристальных взглядов людей, пытающихся разгадать его.
Те мысли были для другого раза. Когда от похмелья не будет казаться, что глаза слишком тяжелые.
— Я сплю, — буркнул он. — Уходите.
— Ты сказал прийти, — донесся, как песня, голос Ирен из-за двери. Она злилась на него? Звучало так.
Он раньше не слышал ее злой. Он не слышал, чтобы она говорила не своим тихим тоном, будто мышка, не желающая побеспокоить кота наверху.
Из всех людей только ее он не мог игнорировать. Она пробралась под его кожу.
От этого еще щеки запылали. Почему он ощущал себя так, словно что-то упустил? Словно сделал то, чего не помнил, но точно сожалел?
Букер осторожно вылез из кровати, проверил, что шнурки штанов завязаны. Не нужно пугать милую кроху его видом во всей красе. Он потянулся за рубашкой, и в голове всплыло пьяное воспоминание.
Кладбище. Он без рубашки.
Она.
Проклятье. Она уже видела его без рубашки. Выступление не считалось. Никто не мог рассмотреть детали из толпы. Но ему не нравилось, когда кто-то видел цветы на его груди. Они показывали, каким мертвым он был внутри, и хоть он хотел, чтобы люди так о нем думали, все равно было неприятно.
Букер бросил рубашку и прошел к двери, пытаясь вспомнить, что он говорил. Он не был жестоким, это было не его стилем, и мать убила бы его, если бы он поднял руку на девушку.
Так было с женщиной, что не была работой. Даже мать Букера была достаточно кровожадной, чтобы согласиться с семьей, что если кто-то провинился, нужно было его побить.
Став старше, он понял, что ненависть в его венах была из-за многих. Просьба убить не означала, что человек был плохим. Скорее всего человек ничем не заслужил смерти.
Но он всегда делал с ними то, что они не заслуживали.
Он вздохнул, провел рукой по голове и открыл дверь.
Она стояла одна у лестницы, белые волосы рассыпались по плечам, распущенные и чудесные. Желтые глаза смотрели на него с очаровательного лица.
Не честно, что она лишала его дара речи одним своим видом. Поражала его своим существованием.
Букер перевел взгляд от ее лица на тело и обратно. Он посмотрел на ее губы, малиновые губы, которые, как он вдруг четко вспомнил, прижимались к его. Не так, как до этого, в скромном поцелуе девушки, которая старалась вырасти.
Нет. Тот поцелуй был полон жара и желания. Гневом на мир, который копился годы и вылился в миг, когда он украл поцелуй, как монстр, каким и был.
Она была в черном. Он еще не видел ее в чем-то не ярком. Но теперь она была в единственном цвете, от которого ему было не по себе. Словно она скорбела. Черный бархат ниспадал с ее плеч, обвивал ее талию и объемно обрамлял ноги. Букер задумался, как она выглядела бы в одежде, прилегающей к коже.
Лучше так не думать. Он все-таки был в одних штанах для сна.
— Доброе утро, — сказала она, глядя на него, словно ждала его слов. Может, он должен был что-то сказать. Но было сложно говорить при ней.
Он кашлянул.
— Утро.
Ирен сжимала что-то в руках, и он понял, что даже не сразу заметил это. Там был поднос со стаканом апельсинового сока и полная тарелка завтрака. Блины, бекон, яйца. Она принесла столько, что хватило бы на двоих.
Может, она на это и намекала.
Она посмотрела на поднос, потом на него и ослепила его улыбкой.
— Я подумала, что ты голоден.
— Нет.
Он сказал это, чтобы прогнать ее. Она не могла ходить с мыслями, что он — хороший человек. Он украл поцелуй и, возможно, что-то еще у нее прошлой ночью. Он не хотел ранить ее еще сильнее.
Но он недооценил ее. Ирен улыбалась, прошла мимо него в его спальню.
— Будешь голоден после татуировки. Если я правильно помню, в тот раз мы оба устали, — она оглянулась и опустила поднос рядом с его кроватью. — Но прошло две недели, так что я могу ошибаться.
Она не ошибалась. Была ли она хоть когда-то неправа? Он хотел опустить мир к ее ногам и сказать, что он принадлежит ей.
— Зачем ты здесь, Ирен? — спросил он недовольным тоном.
— Потому что ты сказал прийти, — ответила она. — У тебя привычка говорить мне прийти, а потом злиться, когда я так делаю.
— Не помню, чтобы я так говорил.
— Даже не знаю, что это о тебе говорит, — продолжила она, словно он не ответил. — Ты хочешь, чтобы я была тут, или нет, Букер?
«Да, — кричала его душа. — Я хочу этого так сильно, что больно».
Его рот не соглашался с душой.
— Нет.
Она склонила голову.
— Думаю, ты врешь.
— Откуда ты знаешь?
Ирен указала на его шею, змея сжала его горло, пока они говорили.
— Не думаю, что ей нравится, когда ты врешь.
Она знала его несколько недель, и он скрывался от нее. Но она уже знала его лучше всех в доме. Она видела знаки и понимала их.
Что ему с этим делать? Букер покачал головой, провел руками по волосам еще раз.
— Ладно. Зачем я просил тебя прийти?
«Только не говори, что для секса», — подумал он, надеясь, что он не был настолько глупым, что пытался забраться под эту милую юбку.
Она приподняла бровь.
— Для татуировки, Букер. Мы ее еще не закончили.
Он был идиотом. Конечно, он хотел закончить тату. Это искусство было его частью, как дыхание. Даже алкоголь не давал ему забыть эту любовь.
Только это он любил по-настоящему.
— Да, — пробормотал он. — Садись в кресло.
— Разве можно татуировать, когда ты еще не проснулся?
От этого он улыбнулся. Букер негромко рассмеялся и указал на кресло.
— Ангел, мои лучшие работы получаются, когда я в полусне. Садись.
Было проще находиться среди людей, когда он работал. Букеру не нравилось быть с другими людьми. От них кожа зудела, это было неприятно. Он хотел знать, что с ними было не так. Он хотел, чтобы они дали повод ненавидеть их, а причина всегда была.
Некоторые были жадными. Другие ненавидели людей, которых не понимали. Некоторые были эгоистами, не видели дальше своего носа. Таких он ненавидел больше всего, они заслуживали больше боли.
Так он не страдал, будучи собой.
Подготовка к процессу была для Букера как становление божеством. Его сердце билось с предвкушением того, что он создаст. Пальцы дрожали от желания начать следующую часть прекрасного рисунка, который останется на чьей-то коже до конца их жизни. Он оставлял свой кусочек на их коже навсегда, потому что они доверяли ему достаточно долго, чтобы отдать немного себя.
Когда он сел рядом с ней, его тело гудело от желания продолжить начатую работу. Он знал, что в ее теле скрывалось что-то, что он хотел вытащить.
Цветы на ее руках были тем, с чего он начал. А потом были пчелы, которые уже гудели в его ушах. Они защитят ее, когда будет нужно.
Потому что она не умела защищать себя.
Он хотел, чтобы она научилась. Чтобы была не девицей в беде, не просто девушкой, из-за которой он переживал, потому что она маленькая. Хрупкая. Уязвимая. А мир хотел сорвать ее с небес во тьму и грязь.
Он прижал иглу к ее коже и начал. Краски расцветали под его ладонями, лепестки становились чарующим произведением искусства.
Они сидели какое-то время в тишине, страдали вдвоем, ощущали запах чернил.
А потом она вдруг заговорила:
— Меня растили в религиозной семье, — тихие слова были тяжелыми в тишине. — Но я всегда видела духи умерших. Люди, которые не хотели покидать землю.
— Это им в тебе и не понравилось, — он склонился к ее левой руке, думая, какого цвета хотел сделать тюльпан.
— Точно, — ее твердый голос заставил его поднять голову. Ее лицо было бледным, она смотрела вперед, а не на него. — Они посчитали, что я одержима. Что со мной что-то не то, и им пришлось вызвать пастора, чтобы он провел изгнание.
— Буду честен, Ангел, я мало знаю о религии.
— Не страшно, — прошептала она, а он стал наносить лавандовый цвет на ее предплечье. — Он привязал бы меня к кровати и полил бы мою кожу святой водой. Они стали бы молиться надо мной, а когда это не помогло бы, стали бы бить плетью по моей спине, рассекая кожу. Он заставил бы меня молиться на коленях часами, пока рассекал мою кожу. А когда это не помогло бы, они обрили бы мою голову, заставили бы сидеть в церкви и молиться, ощущая только ненависть тысяч глаз спиной. Они заморили бы меня голодом. Били бы. Пытались бы топить, пока я не забыла бы, кем была. Что могла.