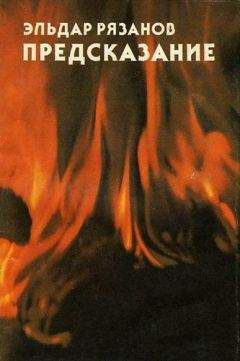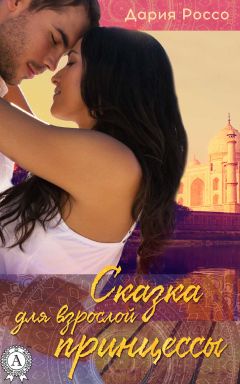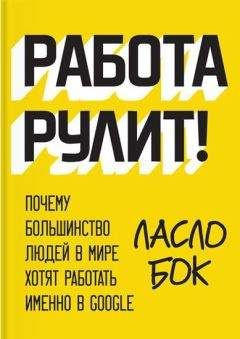Глава пятая
Я проснулся около пяти. За окном затаилась осенняя враждебная тьма. Тусклый свет уличного фонаря еле освещал раскоряченные голые деревья, которые в отчаянии от потерь вздымали руки-сучья к небу. Остатки света проникали в кабинет вместе с причудливыми тенями и придавали предметам зыбкую таинственность. По крыше монотонно молотил октябрьский занудливый дождь. В даче было тепло, но все равно не хотелось выползать из кровати. Однако организм требовал. Люди моего возраста обычно встают ночью. Чего скрывать, дело житейское. Как правило, после нехитрой процедуры в туалете я отключался снова. Вернувшись в постель, где мирно и бесшумно дышала Люда, я тихо, чтобы не разбудить ее, скользнул под одеяло и лежал на спине, не закрывая глаз. Сон не приходил. Разброд мыслей, переполох чувств, наворот событий — все это перемешалось в душе. Мое плечо касалось ее плеча. Привычка к ночному одиночеству и постоянная сжатая тоска от этого растворились куда-то, невидимая пружина как бы разжалась. Я снова был не один, я снова возвращался к жизни. «Правда, не очень-то надолго», — усмехнулся я. Но все равно я поблагодарил судьбу за неожиданный и бесценный подарок, который мне был преподнесен в конце пути. Я встретил Люду в тяжкую минуту. Казалось, ничто не сможет отвлечь меня от ожидания смерти. И действительно, ожидание оказалось очень сильным, оно подмяло под себя все остальные эмоции и ощущения. Но присутствие Люды, ее нежность, ее естественность совершили чудо. Страх смерти не то чтобы улетучился совсем, но отодвинулся далеко-далеко. И мы уплыли вместе в какую-то замечательно прекрасную страну, где не было ни времени, ни границ. О, я умел ценить всамделишность любви и искренность ее выражения. Думаю, подлинная близость между женщиной и мужчиной, если она освящена любовью, всегда безгрешна, ибо природа не бывает похотливой…
Какие только женщины не попадались мне за длинную жизнь! И кусающиеся, демонстрирующие зубами жгучую страсть (после них на теле долго остаются отметины), и лизучие, изображающие нежность, и бешено орущие, афиширующие эротический экстаз, и манерные, якобы оказывающие сопротивление и тем самым подчеркивающие собственную чистоту, и деловитые, занимающиеся любовью так, будто печатают на машинке статистический отчет, и интеллигентно постанывающие, выражающие тактичным кряхтеньем чувство глубокого полового удовлетворения, и ощущающие себя подарком неподвижные бревна, и лениво-пресыщенные, почитывающие во время акта заграничный детектив… Признаюсь, это глубокое расследование основано не только на личном опыте. Я не хочу казаться ни лучше, ни хуже — в зависимости от точки зрения на этот предмет. Кое-что я позаимствовал из практики друзей, делившихся со мной своими амурными похождениями…
Потом совершенно беспричинно я вдруг вспомнил свой визит в райком партии к секретарю-женщине, ведающей идеологией. Это было лет, наверное, двадцать пять тому назад. Направили меня в этот самый райком на собеседование. Мою очередную повесть редколлегия «Юности» представила на Государственную премию СССР. И, как тогда говорили, требовалась поддержка многих организаций, в том числе и райкома партии. А меня в это время обкладывали со всех сторон, загоняя в коммунистическую стаю. И улещивали, и завлекали, и обольщали, и ласково угрожали. А я вилял, петлял, ускользал. Главное было — смыться так, чтобы не навредить себе, не навлечь гнева этого могущественного клана, ибо коммунисты мстили беспощадно. Сначала я убеждал вербовщиков, что еще не созрел для такого ответственного шага.
— Вы созрели! — уверяли меня.
Потом, после очередных покушений на мою беспартийную свободу, я принялся себя порочить: мол, недостоин, не чувствую в себе уверенности, что стану активным строителем светлого будущего, что в психологии моей немало мелкобуржуазного. (Последнее, надо признаться, было правдой.)
— Вы достойны! — возражали мне. — Партия поможет вам избавиться от ваших недостатков.
Во время собеседования в райкоме руководящая дама, лет эдак тридцати пяти, понимая, что я заинтересован в поддержке, поперла на меня, чтобы я дал ей обещание вступить в их славные ряды. Я понимал, что, если я опять слиняю, не видать мне премии, как собственной плешки на макушке. Тогда, чтобы обставить поприличнее свой отказ, я прибегнул к напраслине и прямой клевете на самого себя.
— Вы знаете, я бы с удовольствием пополнил ряды вашей замечательной организации, но у меня есть жуткий порок, чтобы не сказать хуже, — доверительно признался я.
Собеседница перегнулась через стол, сгорая от любопытства.
Я скромно потупился:
— Дело в том, что я — бабник! Я бы даже сказал, бабник-террорист! Увижу юбку — не могу пропустить. А это несовместимо с высоким званием коммуниста.
И я посмотрел на нее циничным мужским взглядом, как бы срывая с нее костюм, купленный явно где-то за границей. Мои глаза раздевали, шарили по ее телу, оценивая скрытые под одеждой женские прелести. Между прочим, прелести, судя по всему, имелись.
В жизни, кстати, я никогда таким образом не смотрел ни на одну женщину. Но тут — общение с актерской братией пригодилось — я попытался сыграть донжуана. Коммунистка покраснела и откинулась в кресле. Она, конечно, почувствовала издевку, и, думаю, ее больше обидело мое лицемерие, то, что мое восхищение ею как женщиной было ненатуральным. Она быстро взяла себя в руки и сухо закончила нашу встречу. Я покинул безликий кабинет, радуясь, что отбоярился. Государственной премии я, конечно, не получил. Но это меня, в общем, не огорчило, так… чуть царапнуло самолюбие… Независимость, пусть даже относительная, была мне тем не менее дороже…
Тут я себя одернул, ибо отдавать последние часы подобным идиотским воспоминаниям было полной чушью.
Какими длинными обернулись для меня заключительные сутки! Как будто я прожил за это время еще одну, дополнительную жизнь. Во всяком случае, событий, нагромоздившихся друг на друга, с избытком хватило бы на несколько лет.
А ведь еще совсем недавно я беспечно трясся в спальном вагоне первой полнометражной русской железной дороги. В это же самое время вчерашних суток опаздывающий состав тащился где-то между Бологим и Тверью. Я неважно спал, как всегда в поезде. В купе было слишком жарко, я мучился от духоты, клял железную дорогу, ворочался, пытаясь уснуть. И совершенно не подозревал, что по прибытии в столицу мое существование перевернется и я выбегу на финишную прямую жизни. Пока сбывалось все, что наобещала цыганка в своем предсказании. Но единственное, чего я никак не мог уразуметь, — это возникновение моего молодого двойника. Младший Олег был одновременно как бы я и как бы не я. Различие между нами, конечно, существовало. Но и сходство было невероятное. Если бы я родился в его время и оказался на его месте, я стал бы, вероятно, точно таким же. Но откуда он возник? И почему именно сейчас? И для чего? Увижу ли я его еще раз? И почему он улетает в Израиль? Тут я подумал о сочетании в себе самом русского и еврейского. Графа в пятом пункте анкеты, где я писал «русский», надежно защищала меня от государственного антисемитизма. В детские годы и в институтские я не ощущал на себе, что я частично неполноценен. Мама по воспитанию своему была совершенно русской женщиной. Она не знала ни еврейского языка, ни национальных праздников. А из кушаний умела готовить только два блюда — фаршированную рыбу и «тейглах» — запеченные, в меду, палочки из теста. Мама вообще была замечательным кулинаром. Из еврейских слов я знал несколько: «дрек мит пфеффер», или в переводе «говно с перцем», «мишугене», что означало «сумасшедший», «лохаим» — слово, которое говорили, чокаясь, и «шлимазл», что переводилось как «недотепа» или «неудачник». Я явственно ощущал в себе еврейские гены только тогда, когда слышал национальную музыку, щемящую, печальную, надрывную. Тут вся душа моя отзывалась на эти звуки, инстинктивно взбудораживалось что-то прятавшееся в глубине, на глаза наворачивались слезы, и какие-то смутные библейские картинки начинали бередить сердце.