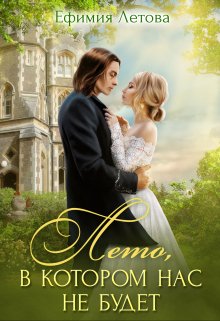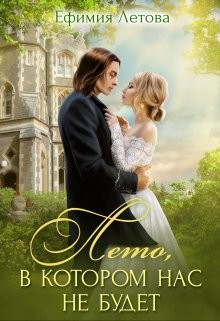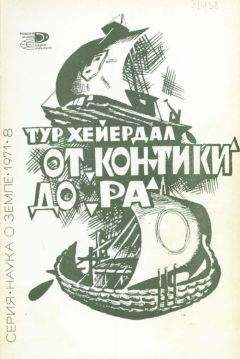бабушку папа очень любит! Он же сам говорил, что жить без неё не может…
И ни за что на свете папа не променяет меня на какого-то там невоспитанного мальчишку, похожего на облезлого нахохлившегося грача.
Только наутро на завтраке мама улыбалась и шутила, а папа, опоздавший минут на пять — из-за чего сердце моё стало колотиться вдруг с удвоенной силой — вошёл, подхватил меня на руки и закружил по комнате так, что всё окружающие меня предметы, лицо мамы и Коссет, вдруг слились в одну смазанную невнятную многоцветную полосу, мои волосы разлетелись, а юбка платья надулась колоколом, почувствовала такое знакомое, самое дорогое в мире прикосновение колючей отцовской щеки. И я вдруг испугалась, ещё сильнее, чем ночью.
Я испугалась даже крохотного шанса, что всё это окажется правдой.
"Ничего не было. Ни ссоры, ни глиста этого тощего. Тебе всё приснилось, глупая Хортенс!" — строго сказала я самой себе. И поцеловала папу в подставленный по привычке нос.
Одна тысяча пятьсот девятый год
После дождя сад вкусно пах сочной свежей зеленью и жирной влажной землёй. Я вдохнула полной грудью этот запах… И смущённо покосилась на эту самую грудь. Кто бы мог подумать, что в двенадцать лет — точнее, неполные тринадцать, до дня рождения осталось всего два с половиной месяца — я буду чувствовать себя таким же садом после дождя: всё во мне растёт во все стороны, а я понятия не имею, что с этим делать.
И мне не по себе.
Дома я не была с осени: на зимние каникулы родители приехали ко мне в школу сами, и мы провели их во Флоттершайне, так и не добравшись до родного Флоттервиля. И в этом не было ничего особенного… Не было бы. Если бы не глубоко угнездившаяся в душе паранойя, что это не попытка родителей развлечь меня, а глубоко продуманная стратегия взрослых: как не дать мне и ему — бледному темноволосому мальчику из запертой комнаты на четвертом этаже — встретиться.
В позапрошлом и прошлом году на летние каникулы меня отправляли к бабушке, и дома я провела в общей сложности всего несколько дней. Я давно уже не верила в сказки и не боялась призраков и темноты, но подспудно всё ещё ждала подтверждения — или разгромного опровержения собственной теории о родительском заговоре. Когда мама моей лучшей школьной подружки Аннет предложила подвезти меня до дома — всего-то на три дня раньше, чем мы договорились с моей собственной мамой, я колебалась не долго.
И вот, в самый первый день лета, восхитительно тёплый, несмотря на только что прошедший дождь, пропитанный утренним мягким светом, я стояла, привезённая любезной малье Айриль-старшей раным-рано, никем не замеченная, посреди собственного сада и пыталась представить нарочитое возмущение матери, хитринку и спрятанную в самой глубине глаз гордость отца за мою самостоятельность и предприимчивость… А взгляд сам собой скользил к окнам четвертого этажа. Закрытым, как всегда, окнам.
— Ни одно живое существо не будет держать окна закрытыми в такой дивный летний денёк, — уверяла я себя, сбивая рукой дождевые капли с овальных листьев только-только отцветшей яблони. — Всё нормально, Хортенс. Ненормальная здесь только ты…
Я сделала шаг вперед — и не удержала короткий визг, когда нога наступила на что-то толстое, мягкое, извивающееся… На что-то определенно живое и очень мерзкое! Опустила глаза и взвизгнула: под моими ногами вовсю копошились яблочные черви. Вообще-то, в этом нет ничего необычного: им так и положено вылезать наружу во время дождя. Но до этого самый крупный из увиденных мною червей напоминал шнурок тоньше моего мизинца и длиной не больше ладони. А эти монстры ярко-зеленого цвета — и только поэтому я не приняла их за змей — больше напоминали ветки.
— А ты всё такая же трусиха, малявка Хортенс, — насмешливый голос раздался откуда-то сверху, и я мигом забыла о червях.
Медленно-медленно, скользя взглядом по едва заметным трещинкам в белом камне стены, по густым зарослям бирюзового плюща, подняла голову — и увидела лохматую голову, высовывающуюся с четвертого этажа. Зажмурилась, пытаясь унять колотящееся сердце — и в то же время ощущая странное облегчение, даже ликование.
— Очень смешно! — выкрикнула я, стараясь, все же, не слишком шуметь. Сейчас, при свете солнца и в уже более "солидном" возрасте, мне уже совсем не хотелось, чтобы родители помешали нашему разговору. И одновременно с этим во мне опять забурлила злость.
Они его не выгнали! Он по-прежнему тут, по-хозяйски выглядывает из окна МОЕГО дома, да еще и обзывается! Глист!
— Испугаться до визга яблочных червей? Да, очень смешно, — мальчишка высунулся по пояс, и я мысленно пожелала ему свалиться в заросли колючей садовой розы.
— Так это твоих рук дело? — мысленно я поразилась и никак не могла припомнить, какой же из благих даров даёт способность увеличивать размеры животных. Но тут же постаралась сделать вид независимый и презрительный. — Тоже мне! Выскочка! Просто я… не ожидала.
Прицелилась в ближайшего червя и послала мысленный огонёк, самый большой из тех, на какие была пока способна. Червь вспыхнул и обуглился, трава рядом с ним потемнела, а у меня от перенапряжения заныла голова.
— Ну и кто из нас выскочка? Я всего лишь увеличил, а ты убила! — вихрастая голова вдруг спряталась, а я тупо смотрела на мёртвого червя. Вообще-то… Вреда от них нет никакого, они даже не кусаются, просто рыхлят землю и едят паданцы. Так что придурок с четвертого этажа прав, это был… нехороший поступок.
Я сердито потрясла головой. Паршиво себя чувствую я, а виноват — он! Это всё из-за него! Я подняла голову, чтобы высказаться напоследок по поводу трусливо убегающих дезертиров — кажется, так это называлось — и обомлела. Мальчишка сидел на подоконнике, свесив вниз длинные худые ноги в чёрных штанах, и явно примеривался к плющу, собираясь спуститься вниз.
— Эй, ты, чокнутый! — сдавленно позвала я. — А ну, стой! Я не буду тебя ловить!
— И не надо, лучше упасть в шиповник, — он повис на стене, а я зажмурилась.
Отчего-то мне совсем не хотелось услышать звук глухого удара тела о землю, но заткнуть ещё и уши означало снова нарваться на его издёвки, и я ограничилась глазами.
Что-то холодное, склизкое и одновременно мохнатое коснулось моей руки, и я опять взвизгнула. Открыла глаза.
Темноволосый глист-придурок, тонконосый и бледный, как несвежее умертвие, явно подросший с нашей последней встречи, но не ставший ни на каплю симпатичнее, стоял прямо