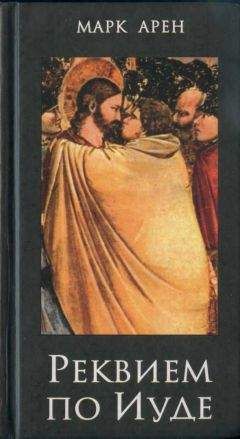Доу, ответом на который стали строчки «… зачем твой дивный карандаш рисует мой арапский профиль». Или тот, что висел у Соболевского, сначала кисти Смирнова, а…
– Тропинина… – поправил его пришелец.
– Простите, не понял? – сказал Андрей Петрович.
– Для Соболевского мой портрет писал Василий Тропинин. Я знаю это, поскольку сам позировал ему, – усмехнувшись, ответил ему незнакомец.
– Это так, – кивнул головой Андрей Петрович, – но в первое время стену его дома украшал портрет поэта, написанный не Тропининым, а Смирновым. Хотите, расскажу?
– Хочу, – ошеломленно ответил пришелец.
– Ну, так вот слушайте, – устроившись поудобнее, начал свой рассказ Андрей Петрович.
– Однажды утром к художнику Василию Андреевичу Тропинину на Ленивку пожаловал в гости его коллега Павел Петрович Соколов и рассказал, что намедни купил у торговки близ Сухаревского рынка маслом писанный пушкинский портрет. За сущие копейки – три рубля! А когда отмыл его от копоти и пыли, то очень уж напомнила ему картина его, тропининскую манеру письма. Вот только смущало, что ни подписи, ни монограммы на ней не было. Собственно с ней, с этой картиной, он и пожаловал в гости.
Услыхав это, Тропинин аж подскочил на месте.
– А ну покажите-ка, покажите, – нетерпеливо сказал он, – я писал Александра Сергеевича, с натуры писал сердешного.
И когда гость, развернув то, во что был завернут портрет, передал его Тропинину, тот, держа холст на вытянутых руках, подмигнул ему и сказал:
– Ну, вот и снова повстречались.
А затем, обращаясь к Соколову, рассказал, что с этим портретом в свое время произошло презабавнейшее происшествие, похлеще иного мошенничества.
А было все так. По приезде в Москву в году этак 1827-м Александр Сергеевич жил на Собачьей площадке в доме своего закадычного приятеля Сергея Александровича Соболевского, того самого, который за год до того предотвратил его поединок с графом Федором Толстым, по кличке Американец, успевшего уложить одиннадцать противников на поединках.
В ту пору Пушкин был в столице самым знаменитым человеком. Многие желали иметь его портрет. В их числе и Соболевский. Но ни один из существующих портретов ему не нравился; он их считал припудренными и припомаженными. И вот он решил, что портрет Пушкина для него должен писать Тропинин.
А в то время дома у него, я имею в виду Соболевского, жил приживальщик – некто Смирнов, разорившийся помещик. Он очень любил рисовать, за что балагур Соболевский называл его мазилкой. И вот, когда Тропинин стал писать Александра Сергеевича, этот Смирнов, человек, как оказалось, способный и усердный, после каждого сеанса перерисовывал запечатленное Тропининым на свой холст. Портрет был завершен и подписан «В. Т.», тогда Соболевский уже уехал в Европу, поэтому он попросил выслать картину. Сделать это было поручено Смирнову. Вот тут и произошло то, что произошло.
Непонятно зачем, но Смирнов отправил Соболевскому не оригинал, а свою копию; после вскоре помер. И когда стали выносить из комнаты его вещи, нашли написанный Тропининым портрет, который вскоре куда-то исчез, в то время как в доме на самом видном месте красовалась копия, написанная Смирновым. И как-то раз приехал в гости к Соболевскому его приятель Фролов. Приехал и, увидев портрет, небрежно бросил: «А, и у тебя есть этот портрет?»
– Как «и у меня»? – удивился Соболевский. – Тропинин писал его для меня.
И тут Фролов рассказывает ему, что третьего дня видел этот портрет в галерее Волкова на Волхонке. С подписью «В. Т.». Стали они вдвоем искать подпись Тропинина на висевшем дома портрете. Тщетно! Тогда, отправившись к Волкову, Соболевский забирает портрет и уже с двумя, оригиналом и копией, приезжает к Тропинину, требуя разъяснений.
Тропинин все и объяснил. Соболевский после этого купил волковский портрет, а копия Смирнова стала гулять по рукам. Что касается оригинала, то в 1909 году из семьи князей Оболенских он попал в Третьяковку, а к столетию со дня смерти поэта, в 1937-м – в его санкт-петербургский музей, где и находится до сих пор…
– Странно… – растерянно проговорил незнакомец. – Я только не пойму, откуда это, как… Это какая-то мистификация… Ведь, судя по вашему рассказу, это произойдет позже…
– Уже произошло, – перебил его Андрей Петрович, – в 1839 году.
– Как это произошло, если сейчас 1837-й… – пролепетал незнакомец.
– Полноте, голубчик, – поморщился Андрей Петрович. – Я вас уверяю, что на дворе у нас уже полгода как 2008-й…
В этот момент раздались громкие шаги, решетчатые двери с лязгом отворились и на пороге, в лучах тусклого света, появился сержант Ступицын.
– Где украл? – потрясая в руке дуэльным пистолетом, зло обратился он к незнакомцу.
– Да как вы смеете?! Вы!.. – вскочив и сжав кулаки, дрожащим от гнева голосом, вскричал незнакомец, и Андрей Петрович тотчас убедился, что новичок с милицией дела никогда не имел. – Я вам советую поумерить свой пыл, если не желаете, чтобы я поучил вас хорошим манерам!
– Чиво-о? – вытаращив глаза, удивленно протянул сержант, и набычась, двинул на незнакомца. Но в этот миг снаружи раздался зычный окрик: «Ступицын, жена к телефону!» Услышав это, сержант остановился, подумал и, нехотя повернувшись, пошел обратно к дверям. Выйдя из камеры, запер за собою дверь и, погрозив новичку кулаком, гулко затопал по коридору, а тот, дрожащим от гнева голосом, крикнул вслед:
– Хам! И что-то еще неразборчивое, на французском, Андрей Петрович разобрал лишь слово «merde!».
– Вы уж поаккуратнее с ними, – тревожно заметил Андрей Петрович. – Помните, что они сделали с чекистом в том фильме? То с чекистом, а с вами чикаться, простите за каламбур, вообще не будут!
В камере воцарилось молчание.
– Мне право странно… – повторил незнакомец, – похоже на мошенство… Но зачем, с какой целью? А вы… Кто вы? И как вас зовут?
– Извольте, – Андрей Петрович, тяжело скрипнув суставами, уселся на пол, – я бомж. Хотя, если уж быть дотошным, то, скорее, бич. Сиречь «бывший интеллигентный человек». Бродяга. А зовут меня Андрей Петрович.
– К какому сословию имеете честь принадлежать?
– Честь нынче иметь – удовольствие дорогое. А что касается сословия, так оно у меня самое что ни на есть низшее, – горько усмехнулся Андрей Петрович.
– Попрошайка? Юродивый?
– Нет, милостыню не прошу. Живу с помойки или мелкой работой, – покачал головой Андрей Петрович. – И не юродствую; провозглашать истины и предвосхищать «товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья» святости не хватает. Я всего лишь бродяга.
– Бродяга… – эхом повторил за ним незнакомец. – Однако язык ваш на пейзанский не похож: построение, мысли, тон… И потом познания, хотя бы даже о портретах. Такое ощущение, будто мы вращаемся в одних и тех же кругах. Однако…
– А я не всегда был таким, какой сейчас… Было