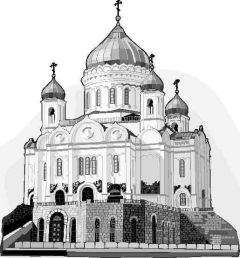— Не придумал…
Я иду в ГАК проверять шифры оставленных мне за время моего отсутствия требований. Несколько заявок на произведения одного и того же автора выписаны, очевидно по старой литературе, без инициалов и с явно перевранными названиями работ. Конечно, надо было проверить по базе, но я все еще хожу в состоянии безвольного трупа и плохо соображаю, а идти обратно к компьютеру или теребить кого-то из сотрудников каталога откровенно лень. Уже несколько минут я сижу с этой пачкой на стремянке, и роюсь в двух параллельных ящиках.
Вдруг из-за каталожной громады выныривает черный силуэт. Так это, значит, его решительные шаги я только что слышал. Один, без библиографа, во внечитательской зоне. Впрочем, что удивляться, его тут столько раз уже видели, что давно уже считают за своего. А учитывая ту уверенность, с которой он обычно распахивает двери, каждый, глядя на него, решит, что надпись «Только для сотрудников» его не касается. Какое-то время он стоит, прислонившись плечом к каталожным кубам, низко опустив голову, так что я сверху даже не вижу его лицо. Потом, обращаясь к моей коленке, говорит хриплым шепотом со вздохами-паузами:
— Пришел отдать тебе ключи. Будет лучше, если ты заберешь свои вещи, когда меня не будет. Я… я не думал, что будет настолько плохо. Не представляю даже, как я дальше тут буду. Можно, конечно, сидеть в другом зале, получать книжки в то время, когда тебя нет, за шифрами обращаться к твоим напарникам, но… но этот подоконник перед единственным читательским туалетом! Я до сих пор спокойно смотреть на него не могу. Можно, конечно, ходить в БАН, но они только до восьми, а по выходным вообще не работают. А что дома делать, я просто не представляю! Там все, буквально все в тебе! Я даже книжку почитать не могу, потому что там практически ни одного корешка нет на полке, которого бы ты не коснулся пальцами…В общем, не знаю… Говорила мне Лиса, что будет плохо, но не думал я, что настолько…
Все так же не глядя на меня, он вытаскивает из кармана пальто руку с моими ключами, и сквозь слезы я замечаю, что кольцо он тоже не снял. Ключи он кладет на выдвижную деревянную полочку для каталожных ящиков, потом выуживает из кармана цепочку со своим треугольником и опускает рядом с ключами.
— Это тоже оставь себе. Ты теперь знаешь, как эта штука работает, может быть, с кем-нибудь пригодится… Когда свою половину искать будешь… А я в эти игры больше не играю.
На этом он резко разворачивается и быстро уходит. Черт!… черт!… черт!… если бы он только поднял на меня глаза, и увидел, что я плачу!.. если бы он не встал так далеко от меня, и я бы смог до него дотянуться!.. если бы я не сидел на стремянке, и можно было бы поймать его, когда он разворачивался уходить или хотя бы догнать на ходу в каталоге!.. Если бы я только умел говорить с комком в горле… но у меня даже дыхания не хватает!..
Впрочем, что бы сумел я ему тогда сказать?.. Я, который, вообще ни разу в своей жизни не признавался никому в любви. Я, который не знает, какими надо говорить словами, чтобы их опошленное от частого употребления значение не исказило смысл того, что ты пытаешься передать. «Если человек настолько сильно ненавидит самого себя, то ему вообще сложно объяснить, что его любят», — вспоминаю я. А я знаю только один способ объяснения… И даже этот способ не показался ему позапрошлой ночью в темном лесу достаточно убедительным… Что же я все-таки за бестолочь!.. Я задвигаю ящики, чтобы не стукнуться головой, спускаюсь со стремянки, засовываю ключи в карман джинсов. В другой карман я сую сломанный могендовид, потом снимаю с шеи свою половинку и засовываю ее туда же — надо не забыть сегодня же бросить их в Фонтанку…
В буфете, куда я спускаюсь выпить в одиночестве кофе, я неожиданно застаю Серегу Иванова с нашей кафедры.
— Здорово, Настасья! — кричит он мне еще издали, и не успеваю я ему даже ответить, как он уже рядом, уже хлопает меня по плечу и тут же тащит за свой столик.
Я, несмотря на свое состояние, а может быть, как раз отчасти из-за него, безумно рад видеть Сержа. Оказывается, дружеская улыбка в состоянии на какое-то время оживить даже повешенного. А мы ведь с ним не виделись уже страшно сказать, сколько времени, хотя когда-то действительно были очень дружны и даже организовывали вместе студенческую конференцию.
— Ну, как жизнь молодая? Смотрю, у тебя все хорошо!
— Серж, — неловко и невесело смеюсь я. — Разве я отношусь к тем людям, у которых может быть все хорошо?
— Конечно, может! — отвечает мне этот неисправимый оптимист. — Да ладно прикидываться! — пихает он меня в плечо через стол. — Я все знаю! Видел вас как-то в метро с Жоржем.
— С каким Жоржем? — настораживаюсь я.
— Ну, с Гошкой Крестовским, с сокурсником моим.
— Со Штерном?
— Ах, да! Точно! Он же фамилию матери взял, когда его из Универа поперли. Запомнить все никак не могу. Помню только, какая-то еврейская фамилия…
Ничего себе какая-то….
— Я, кстати, еще тогда, когда в первый раз увидел, как он на тебя смотрит, сразу подумал: «Ну, эти двое точно когда-нибудь будут вместе!» И что? Я оказался прав! А, Настька?
Он так заразителен в этом своем жизнелюбии, что я просто не решаюсь сказать ему, что все уже неисправимо плохо. Вместо этого я спрашиваю:
— А можешь мне о нем рассказать? Ну, каким он был в Университете.
— Ну, обычный такой Гошка Крестовский… Подожди, ты что, не помнишь его что ли? Насть, я чего-то не понимаю. Я же сам тебя с ним видел, как вы в обнимку в метро ехали…
Я со вздохом киваю, моргаю глазами, сглатываю комок.
— Ну, видишь, — у меня даже получается говорить. — Он никогда не рассказывает про свое прошлое. Он мне вообще только вчера сказал, что мы с ним, оказывается, в одно время учились. А я его совсем не помню, прикинь?
— Н-да, — хмыкает он, понимающе усмехаясь. — Это, конечно, в жоркином духе тень на плетень навести… Целый год сохнуть по человеку, а потом при встрече не признаться даже… Да помнишь ты его! Не выдумывай! Вы с ним целый год вместе в читальном зале занимались. Он там диплом писал, потому что жил тогда в какой-то уж совсем жуткой коммуналке. А ты там вечно не то с латынью, не то другой какой пакостью.
Сержа невозможно слушать и не улыбаться. Даже мне. Даже сейчас.
— Англист… модернист заковыченный, — бурчу я свое вечное проклятье в его адрес.
— Ну, помнишь же? Он еще вечно в одном и том же свитере ходил, страшном таком, и повязка на голове у него вечно какая-то была, как у японца — красная или черная. И очки еще носил, огромные такие… Да я же говорю, помнишь!..