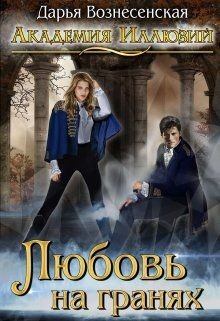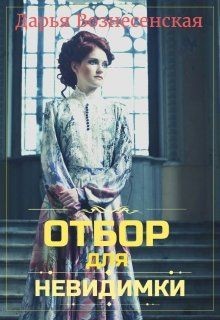Я открываю рот, но он только отмахивается:
— Я и так знаю все, что ты хочешь спросить. Все вы одинаковые… открываете глаза и тут же требуете ответов.
— Мы их заслужили, — все таки выталкиваю из себя слова.
— Заслужили, — он кивает, берет стул и садится так, чтобы мне удобно было на него смотреть. Я и смотрю. Не отрываю взгляда от его камзола, на котором закреплен знак Первого Советника.
Знак моего отца.
Да Коста-Мело замечает, куда направлен мой взгляд и вздыхает.
— Я никогда не хотел получить эту должность… так. Но кому-то надо было занять её и помочь Его Величеству разобраться.
Мои губы презрительно кривятся, но мои чувства направлены точно не на мужчину возле меня. И советник это понимает. Но не комментирует.
И слава богам.
— Все живы, — начинает отец Мигеля. — И магистры. Вы не знали — но на них направили пожирателей граней, чтобы внести еще большую сумятицу. Больше всего пострадали друг твоего брата, Габриель, двое эроимцев и… Даниель.
Он видимо различает панику в моих глазах и успокаивающе поглаживает по плечу:
— Нет-нет, не волнуйся, он уже пошел на поправку. Ты провела в лихорадке двое суток, ему тоже было не сладко, но все позади. Только с вашими четверокурсниками предстоит еще много работы, после того, как с ними «пообщался» да Валонгу и его жена. Да, мы знаем, кто был одним из исполнителей столь многоходового плана. И узнали бы раньше, если бы ты сообщила о своих подозрениях…
В его словах мне почудился упрек, и я не сдержала язвительного:
— Мне еще и эту работу надо было за вас сделать? Я не знала, кому можно доверять!
— Я понимаю. И потому доверилась тем, кому нужно, — он улыбнулся почти с отеческой гордостью. — Вы сделали невозможное, Эва-Каталина. Ты, твой брат, Даниель. Мы подбирались к этой истории и весьма успешно, но без вашей помощи и решительности, без вашей безграничной уверенности в собственной правоте, без готовности рискнуть своими жизнями…
Голос его пресекся, от волнения, но советник справился быстро и продолжил уже более спокойно.
— Питер-Дамиен был прав. И ты. Заговорщики действительно хотели втянуть в войну несколько стран, переделать границы, захватить власть… Убить королевские семьи. Да, обе, чтобы в Эроиме и Одивеларе началась смута.
— Вы нашли их?
— Исполнителей. Многих приближенных к, но… — да Коста-Мело скривился, — Пауки, что развязали эту историю, достаточно хитры, чтобы скрыть свои лица. Но мы найдем. Вы дали нам главное… время.
— А мои родители? Их отпустили?
— Понимаешь, все не так просто…
Я сделала рывок и тут же со стоном опустилась на кровать.
— Как вы… как король может теперь…
— Эва-Каталина, это не делается по щелчку, тебе ли не знать. Нужно собрать доказательства отсутствия вины твоего отца, но то, что расследование возобновлено… точнее, никогда не прекращалось говорит о многом.
— Что значит… не прекращалось?
— Лишь то, что Его Величество никогда до конца не верил в причастность своего друга.
— Но пытки… тюрьма…
— Многое было не так, как кажется. Но я пока не могу говорить обо всем. Просто знай — у вашего рода есть все шансы вернуться на политическую арену.
— К завесе политику! Я лишь хочу, чтобы моих родителей вернули живыми!
Обессилено закрыла глаза, чувствуя, как текут по лицу слезы.
— Не плачь, Эва… — сквозь наваливающуюся тьму я почувствовала, как меня накрывают одеялом, — Все будет хорошо.
Я проснулась следующим утром. И тут же мой день и комнату наполнили люди.
Меня допрашивали дознаватели — отец Мигеля тоже присутствовал, строго следя за тем, чтобы на меня не давили. И на возникающие у меня вопросы он отвечал — рассказал, что Питер-Дамиен и все, кто был готов перенести долгую дорогу — даже эроимцы — были отправлены в Алмейрин, в Гимарайнше оставалось лишь несколько человек.
В том числе мы с Даниелем, которого я не видела с того момента, когда потеряла сознание.
Меня кормили.
А я хотела увидеть лично, как Даниель дышит и разговаривает — наверняка ведь к нему тоже таскаются все эти люди в форме?
Меня лечили.
А мне нужно было убедиться, что его раны заживают…
Учили заново ходить — от нервного и магического истощения со мной случилась лихорадка, которая и повлияла на мое состояние.
А я выла, уже даже не внутренне, потому что потребность увидеть своего мужчину была сильнее, чем согласие с прописанным мне режимом восстановления. И к вечеру я поняла, что дальше так продолжаться не может. Как только ушли последние вопрошающие, со стоном спустила ноги с кровати и поползла в сторону выхода, держась за стенку.
Целительница нашла меня уже возле двери. Пошатывающуюся и пытающуюся отдышаться.
Я свирепо на нее посмотрела:
— Даже не думайте… Не дам уложить себя в кровать! Мне надо увидеть до Вальдерея.
Она вздохнула и вдруг улыбнулась, а потом подставила плечо:
— Пошли уже, помогу. А то он тоже пытается встать — но ему точно еще нельзя, раны могут открыться снова.
Путь до двери в конце коридора кажется мне бесконечным.
Но и он заканчивается.
Мы заходим внутрь, и я вижу Даниеля, который пытается привстать на кровати. И начинаю нервно хихикать.
В больничных широченных рубахах, всклокоченные, бледные — мы похожи на двух калек или умалишенных. Но когда его светлые глаза встречаются с моими, все становится не важно.
Женщина подводит меня к стулу, а я отрицательно мотаю головой. И она только возмущенно пыхтит, когда я пристраиваюсь на кровати рядом с Даниелем, который, не отрывая от меня взгляда, с трудом поворачивается на бок.
И говорит всего одну фразу. Не мне:
— Закройте дверь… пожалуйста.
А со мной разговаривает без слов.
Нам они не нужны.
Нам нужно просто смотреть друг на друга. Чувствовать запах. Слышать биение сердец. Переплетать пальцы.
Я глажу его по щекам, а он целует мою ладонь.
Он осторожно притягивает меня к себе здоровой рукой, а я вдруг рассказываю легенду про одинаковые глаза.
Я перебираю его темные волосы, а он обрисовывает языком мои губы.
Мы сплетаемся всеми конечностями и спустя некоторое время засыпаем, дыша в унисон.
Впервые за долгое время совершенно спокойно.
Так нас и застает магистр Ковильян следующим утром. Чуть морщится и поджимает губы — все в нашем положении против правил приличий, к тому же, мы его студенты. Но он ничего не говорит и я благодарна за это, потому что чувствую готовность Даниеля — и что уж там, потребность — дать отпор любому поползновению на наши объятия.
— Меня заверили, что через два дня вы будете в состоянии выехать. Торопиться в дороге не будем, но все же вам — и мне — пора. Его Величество желает видеть обоих.
Замираем. А потом я вздыхаю:
— Кто мы такие, чтобы противиться его воле.
43
Даниель
— Ты — мое чудо. Мой день. Ночь.
Я глажу плечо Снежинки, пробегаюсь пальцами по хрупким позвонкам, прихватываю бедра, вырывая прерывистый вздох.
— Твоя гладкость… Твой вкус. Как колотится твое сердце, когда я рядом, как влажнеет кожа, когда я трогаю тебя здесь… и здесь. Я люблю в тебе все. Каждый твой вдох и стон.
Я никогда не был романтичным. Не участвовал в глупых стихоплетных состязаниях, недоумевал от витиеватых комплиментов, которые, порой, выдавали девицам мои друзья. Только закатывал глаза, когда видел, что кто-то вручает своим избранницам дорогие подарки и позволяет надеть идиотский венок из цветов на голову во время праздников.
Ага, венок на голову — ошейник на шею.
Но у моей Эвы будет все. И уж тем более то, что я никогда не делал. Потому что она — моя. Потому что она заслуживает каждого слова, каждого комплимента и поцелуя. А как только у меня будет возможность, когда мы попадем в столицу, я завалю её подарками.
Просто хочу этого. И буду делать. Жизнь слишком хорошо показала мне, что мы можем откладывать… а потом окажется поздно. И потому я не останавливаю рвущиеся наружу чувства и слова. Я ведь могу не успеть ей сказать и показать их.