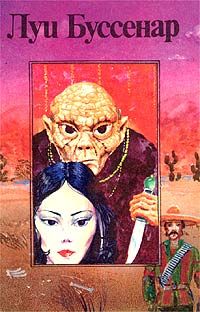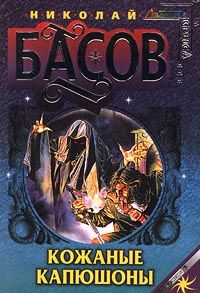И при этом ни один стежок вышивки не украшал занавесочки в пол-окна, ни один красочный штрих не коснулся глянцевых горшков. Я вспомнила, что и снаружи не видела на домах ни резьбы, ни росписи, а одевались крестьяне в некрашеную одежду самого простого покроя, отличавшуюся от городских туник и плащей большей приспособленностью к земледельческим работам и грубостью ткани. Я надеялась, что мне выпадет случай расспросить об этом кого-нибудь из местных.
Как только солнце начало клониться к закату — со двора Маркелита отлично был виден морской горизонт и огненная дорожка, протянувшаяся к берегу, — по деревне началось движение. Нас провели на так называемую «главную площадь» — пятачок земли на склоне холма, где днем жители деревни обменивали урожай со своих полей и огородов на рыбу, привезенную по морю котинцами, а вечерами устраивали гуляния.
Несколько бочек молодого вина было выкачено прямо на площадь. Виноделы за мелкую монету щедро наливали всем желающим в глубокие миски пенящийся напиток. Мы с Чи-Гоаном переглянулись и, вспомнив каби, от покупки удержались. Рейдан же купил себе такую миску и с удовольствием к ней прикладывался. Стемнело быстро и незаметно, площадь осветили факелы. Народ, оживленный выпитым и предвкушая зрелище, начал хлопать в ладоши, вызывая свою любимицу. Я вспомнила словно мороком охваченную толпу, стремящуюся увидеть Лонвину, но здесь все было иначе: просто веселые люди, собравшиеся отдохнуть после тяжелого труда.
Кармила поднялась на деревянный настил и улыбнулась. Для танца она переоделась в необычное для этих мест старенькое голубое платьице — старик Макелит тут же таинственным шепотом сообщил нам, что родители привезли это платье для дочки из Котина. Под дружные хлопки и притопы, отбивающие ритм, девушка начала танцевать. В ее пляске, одновременно затейливой и бесхитростной, не было никакого надрыва, никакого насилия над своей душой, вдруг вынужденной обнажать свои раны. Руки сплетались, как ростки, стремящиеся к свету из-под земли, и снова скользили вниз, едва касаясь бедер так, что мужчины восторженно охали. Маленькие ножки то часто-часто переступали, звеня браслетами, то вдруг отрывались от сцены, совершая в воздухе немыслимые обороты. Пышные завитки черных волос падали на лицо и рассыпались по плечам. Красота девичьего тела, дразнящая откровенность ее чувственных движений, ощущение полноты жизни, исходящее от всего облика девушки, выросшей на солнечном берегу теплого моря, — всем этим одновременно наслаждались и глаза, и сердце. На усталых лицах крестьян зажглись горделивые улыбки: еще бы, их любимица была хороша как никогда и не осрамилась перед гостями.
От танца меня отвлек Чи-Гоан, который последние четверть часа ужасно ерзал, сидя рядом со мной, а теперь и вовсе решил уйти. Проследив за ним удивленным взглядом, я заметила, что он направляется вслед за какой-то девушкой, быстро исчезающей за освещенным кругом. Что ж, лю-штанец больше не был пленником, он был нашим верным спутником и имел право поступать, как ему вздумается. Тут к нам подсел Макелит с очередным блюдом пирожков, и я, забыв о Чи-Гоане, взяла самый верхний, на котором еще шипело золотистое масло. Виса, забросив кость, заинтересованно потянулась к моей руке, и мне пришлось поделиться с ней.
— Ну, как вам понравилась моя Кармила? — спросил Макелит, осторожно, чтобы не побеспокоить керато, усаживаясь рядом.
— Великолепно! Невиданно! — в один голос искренне воскликнули мы с Рейданом.
— А почему она танцует только по ночам? — полюбопытствовала я.
— Так днем в деревне все работают, — ответил Рейдан.
— Не только, не только, — вздохнул Макелит. Старик оглянулся и придвинулся к нам поближе. — Вижу, что вы еще не очень поняли, какие у нас тут порядки. Господа из благословенного города не слишком-то жалуют нас, крестьян. Нас пускают за городскую стену только с каким-нибудь товаром, да и то только ночью. А уж насчет того, чтобы заглянуть в их храмы, — и думать не смей. Я-то что, и в самом деле, нечего мне там делать, еще попорчу чего-нибудь с моими-то ручищами, — и он для пущей убедительности показал нам свои натруженные ладони. — А многим из наших, молодым, хотелось бы посмотреть красивые картины. Кое-кто тайком мечтает и сам нарисовать что-нибудь такое, чтобы прославиться в благословенном городе. Только… За такие мечты ой как поплатиться можно.
Я задумчиво кивнула, вспомнив рассказы Гетто о том, как его чуть не казнили, обвинив в порче собственной картины. Похоже, ко всему, что имело отношение к искусству, в Фолесо относились с ожесточенной строгостью. Оставалось надеяться, что никто не успеет узнать, что Готто, при въезде в гостиницу представившийся художником, на самом деле так и не прошел Посвящения.
— Иногда господа из благословенного города заявляются в ту или другую деревню, — продолжал Макелит, — и напоминают о том, что нам нельзя расписывать посуду, украшать свои дома и одежду. Как это они говорят… «Искусством могут заниматься только посвященные. Драгоценный камень, проданный осколками, будет стоить гроши. Так и искусство нельзя разменивать на низменные нужды». Они и танцевать Кармиле хотели запретить — были здесь недавно два важных господина. Только потом между собой заспорили, и наконец один сказал: «К искусству пляска этой девчонки отношения не имеет. Пусть вертит задницей, — так он и сказал! — сколько хочет». Мне было обидно услышать такое про внучку — она ведь не какая-нибудь вертихвостка. Но я сообразил, что если я промолчу, они оставят нас в покое. И господа уехали, сказав напоследок, что днем Кармиле танцевать нельзя: «Чтобы не оскорблять благословенный лик искусства».
— Дедушка Макелит, я слышала, что все великие мастера Фолесо родились не в городе, а за стеной. Как же они узнали о своих дарованиях?
— А как ребенку объяснишь, что нельзя рисовать палочкой на дороге? — с внезапной горечью воскликнул Макелит. — Или что нельзя фигурки из глины лепить? Бывало, матери за такими сорванцами не усмотрят, а господа тут как тут. Хвать малыша и в седло; она, бедная, вопит от горя, в пыли валяется, а господин бросит ей пару лаков и пустит коня вскачь. А потом они этих деток учат в своих школах вместе с чужеземными детишками — сюда, в Фолесо, многих присылают учиться. Только для нас эти дети все равно что умершие: им запрещают видеться с родителями, навещать родную деревню. Вот и Лонвинины родители: вроде бы и рады за дочку, что она такая знаменитость, а тоже слезы льют украдкой: сызмальства ее не видали, а других детей так и не завели…
Я слушала взволнованный рассказ старика вполуха, сжимая внезапно похолодевшие ладони. Несчастная мать, распростершаяся в пыли под копытами коня, на котором навсегда увозили ее ребенка… Мама, замершая в углу у печи… «Вернись ко мне, Шайса!» Красота, спрятанная за семью замками; высокомерное искусство, служащее только своим создателям… Неволя, приукрашенная словами о высоком предназначении… Нет, это было еще не понимание, лишь предчувствие его. Добрый старик Макелит очередной раз заставил меня задуматься: а правильны ли те представления о жизни, в которых воспитывали меня с раннего детства. И к которым, если Готто не подведет его гений, я должна была скоро вернуться…