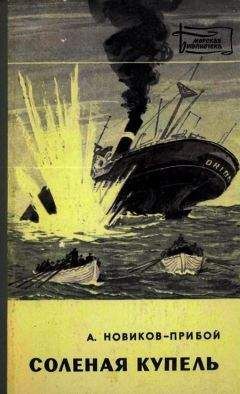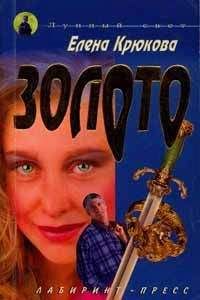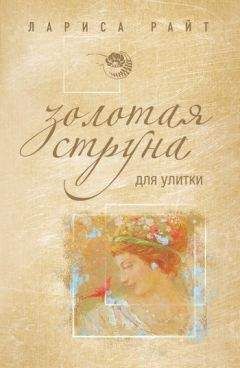– Я видел во сне войну.
– Войну?
Фелисидад замерла.
Она хотела запретить Рому: «Не надо, об этом не говорят», – но не посмела.
– Война. Это было очень страшно. Я все видел. Взрывы. Огромный огонь. Ослепляет. Вместо людей – тени. Куски тел лежат на тротуаре, как… хлеб, что обмакнули в вино. Думаешь, все, вот он, конец света. О нем так много говорили, так все боялись его, и вот он пришел. Вот она, гибель всех и всего. Бред, и шепчешь себе: быть не может, и все – на самом деле. Знаешь, как это во сне бывает? Хочешь проснуться – и не можешь. Знаешь, что это сон, и…
– Знаю.
Она дышала тяжело. Ее смуглое личико покрылось каплями пота.
– Бомбы падают. Все горит. Руины. Я задыхаюсь в пыли. Зову тебя. Но ты молчишь. Я знаю – ты под завалами. Под этими камнями! Но твоего голоса нет. И тебя нет. И я кричу.
По его лицу тоже тек пот.
– Не надо! – шепотом крикнула Фелисидад.
Ром не слышал.
– И почему-то мать, моя мертвая мать, которую я не знал совсем, я вырос без нее, она умерла, погибла в автокатастрофе, когда я был маленький, очень маленький, моя мама, да, да, я видел ее, я понял, что это она, мама моя, спасает нашего сына, внука своего, от взрывов. От смерти.
– Как… спасает?
– Просто. Самолет летит, чтобы сбросить бомбу. А сын наш – вот он, передо мной. У моих ног. Малютка. И ногу мою обнимает. Жмется ко мне. А мама наклоняется быстро и хватает его. И поднимает на руки. И бежит с ним! Бежит! Я кричу: мама, ты куда! Ты сейчас умрешь! В тебя снаряд попадет! Ты сгоришь! А она оборачивается на бегу… и так странно, прекрасно… улыбается мне. Ослепительно улыбается! Во весь рот!
Фелисидад круглыми ямами глаз, всей кожей, каждым пальчиком и каждым волоском впитывала, всасывала страшную сказку.
– Я вижу, как она бежит. Мелькают в пыли ее пятки. Она крепко прижимает к себе нашего сына. Закрывает его головой. Шеей. Грудью. Руками. Рукавами. Всей плотью. Всей жизнью! Бежит все быстрее, быстрей! А в нее бьет огонь. Огненные реки с неба. Огонь ударяет в ее следы. Спереди. Сзади. А ее не может поразить. А мальчик, наш сын, плачет. Я слышу издалека его плач. Слышу его, понимаешь?!
Фелисидад все сильнее сжимала его руку.
По ее смуглым щекам медленно текли золотые ручьи слез.
– И вдруг они оба будто проваливаются под землю. И там, где моя мать бежала, громадная черная яма. Я бегу к этой яме. Задыхаюсь. Добегаю. А там не просто яма, а лестница вниз. Бегу вниз по лестнице! И попадаю в огромный подвал. Там сидят люди. Они пережидают налет. У них у всех белые, синие лица. Как мертвые. А у моей мамы лицо живое. Розовое. И у нашего сына живое. Мать держит его у груди и гладит по черным кудрявым волосам. И целует, целует.
Слезы затекали в приоткрытый рот Фелисидад, стекали по тонкой ее шейке.
– И что… потом? Кончилась война?
Ром вытер пот с лица ладонью.
– Кончилась. А как же. Все войны кончаются. И эта кончилась. И вот наш сын вырос. И знаешь, кем он стал?
– Кем?
Фелисидад дрожала, как на морозе.
– Астронавтом. Он очень любил звезды. Он с детства любил глядеть на звездное небо. Знал, где восходят все звезды и планеты: алмазная Венера, красный Марс, яркий цветной Сириус, желтый Юпитер, синяя Вега. Он выучился на астронавта и полетел в космос. Он хотел увидеть звезды близко. Он полетел на Марс. В составе международной экспедиции. И эта экспедиция вернулась. На Землю. Вернулся корабль. И он вернулся.
– Наш сын?
– Да. И в огромном дворце, я видел это, устраивают торжественный прием. Зал будто бы отделан черным и зеленым мрамором. Или лабрадором. Синие искры в камне вспыхивают. Как звездное небо. Встречают астронавтов. Прием в их честь. Президенты, владыки, высокие персоны. Высший свет Земли. Так красиво! Накрытые столы. На столах чего только нет! Я таких яств живьем никогда не видел. Красота… неописуемая. Астронавты, что с Марса прилетели, в ряд стоят посреди зала. Все в черных костюмах и белых рубашках. И наш сын среди них. Такой красавец!
– Красавец, – эхом повторили соленые губы Фелисидад.
– И я его вижу. Близко. Вот как тебя. Потому что близко стою. Рядом. И вдруг…
– Что – вдруг?
– Из толпы гостей выходит женщина. Полная, грузная. Пожилая. Даже старая. Еле плывет по залу. Важная дама. В длинном, до полу платье. Платье искрится, переливается, тоже все в блестках, в звездах. Такая ткань, не знаю, как по-испански…
– Парча.
– Да, парча. Идет знатная старуха. Все вперед и вперед. Важно идет, гордо. Голову откинула. Седые волосы на затылке в пучок уложены. Воротничок у платья белый, снежно-белый, отглаженный. Морщинистые руки без колец. И в ушах серег нет. Идет без украшений. Только глаза горят. Черные. Как у тебя. Идет. Медленно, торжественно… Плывет. Как царица.
– Да…
– И подходит к нашему сыну. И наш сын глядит на нее. И узнает ее. И бросается этой старой женщине на грудь. Обнимает ее… крепко-крепко… сильно-сильно. Головой прижимается к ней. И я слышу, я ведь рядом стою, как он шепчет: как хорошо, что ты пришла. Я ждал тебя. Я знаю тебя. Я узнал тебя!
Вместо лица Фелисидад над больничной койкой всходила полная золотая луна, залитая узорами, разводами тоски и печали, любви и надежды.
– Узнал? Кто это был? Кто она была?.. эта старуха…
– Моя бабушка, – сказал Ром еле слышно.
Фелисидад обернула мокрую луну лица к крестовине окна.
Полосы белых бинтов на ее руках и плечах напоминали перекрестья снега, наметенного в оврагах и лощинах, на холмах и в полях его далекой земли.
Поглядели на Рома, сквозь Рома, в утраченное время, плывущие черными рыбами, невидящие жаркие глаза.
– А как его звали? Ты запомнил?
– Кого?
– Нашего сына, – шепнула Фелисидад, закрыла глаза, и улыбка обожгла ее зареванное лицо.
Их выписали из госпиталя, когда все раны зарубцевались и им сняли все швы. «Меченые теперь, ребята, – шутил седой веселый доктор, грубо щупая свежее натяжение тканей, – говорят, шрамы украшают мужчину, да и женщину тоже!» И подмигивал Фелисидад, а Ром ревновал.
Сеньор Сантьяго привез их домой на машине, предварительно украсив ее цветами. Фелисидад покраснела и шепнула Рому:
– Свадьбы нет, а машина вся в цветах!
Ром нахмурился:
– Когда свадьба будет, цветов будет еще больше. Ты какие любишь, – спросил он Фелисидад. И Фелисидад задумалась. Долго думала и со вздохом сказала:
– Не знаю, может быть, белые розы? Добавила: и еще магнолии. Они так сильно пахнут!
– О´кей, – кивнул Ром, – у нас на свадьбе будет гора белых роз и гора магнолий, и я посажу тебя поверх цветов!
– На капот, что ли? – хохотала Фелисидад.
– Я на права в Америке сдам, – сказал Ром сердито. Фелисидад обнимала его и целовала в губы, а потом в грубый шрам чуть выше ключицы. Когда Ром расстегивал ворот рубахи, шрам было видать во всей красе. «Будто крокодил покусал», – смеялись Эмильяно и Хесус, пальцами на вспухший шов показывая.