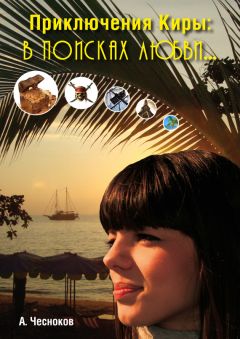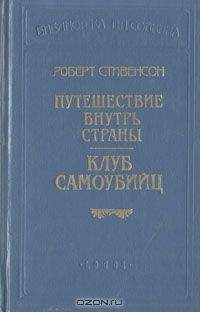По ту сторону его стучит сердце Эмили.
Она жива. Самое главное, что она — жива!
— И может живой остаться, — сказал Френсис, в очередной раз заглянув в мои мысли. — Если ты окажешь мне помощь в моем небольшом деле.
— Дориан, не слушай его! Не слушай!
Эмили выглядит спящей. Веки ее неплотно сомкнуты и мне хочется заглянуть в глаза. Или ударить по стеклу, чтобы треснуло, чтобы выплеснуло желтизну утробы и позволило добраться до проводов. Я буду рвать их, как паутину и…
— Не дури, князь, — мягко произнес Френсис. — То, о чем ты думаешь, вызовет коллапс. И смерть. Ты же не хочешь, чтобы она умерла?
— Почему… за что вы так меня ненавидите?
В его глазах пустота. Это как глядется в бездну, надеясь поймать в ней хоть тень человечности.
— За то, что ты есть. Но в одном не прав — ненавижу я не только тебя. Весь ваш мирок, такой нарядный и такой лживый. Ты садись, Дориан. Время еще есть. Минут пятьдесят.
Его хронометр, должно быть, очень точен.
— Однажды я влюбился. И девушка, которую любил, ответила взаимностью. Ты вряд ли представляешь, какое это счастье, быть любимым. И какое горе, когда оказывается, что любовь — это одно, а чувство долга — совсем другое.
— Она отказала тебе?
— Нет. Согласилась. Мы сбежали. Мы были так молоды и надеялись, что если обвенчаемся, то нас оставят в покое. А оказалось, что венчание ничего не значит. Священник получает кошелек и отрекается. Запись в церковной книге исчезает. Брачный договор с нею. Моя молодая жена после разговора с отцом твердит, что долг ее — повиноваться воле родителя. И она по-прежнему меня любит, она будет ждать, она верит, что… проклятье!
Дайтон пнул железяку, которой угораздило попасться на его пути. Кажется, собственный рассказ привел его в бешенство.
— Знаешь, что я сделал? Я пошел к твоему папаше. Он ведь учил меня. Любил приговаривать, что я талантливый, а у тебя и братца твоего нет и десятой части моего ума. И я подумал, какого дьявола? Если так, то помоги! Ты ведь сам называл меня третьим сыном!
И мы все-таки встречались. Я вспомнил бледного юношу с диковатыми повадками, с которым однажды довелось провести два часа в отцовском кабинете. Юноша пытался втолковать мне основы алгебры. Я думал о том, что Эмили тоже в Сити, и снова был невнимателен. Кажется, тогда меня обозвали тупицей.
— А твой папаша ответил мне, что я, безусловно, надежда и опора страны… когда-нибудь в будущем. И я не должен до наступления этого будущего хотеть чего-то, что выходит за пределы дозволенного. Смирись, сказал он. И будет тебе счастье!
Выражение лица девочки меняется, глаза открываются и рот тоже, выпуская стаю пузырей. Они летят к крышке капсулы и липнут к стенкам.
— Вам следовало… — начала Минди, и Дайтон, дернувшись, подскочил к клетке, ударил рукоятью по пальцам. Минди с визгом отпрянула.
— Прекратите!
— Иначе что? — он повернулся ко мне. — Ты меня остановишь? Благородно станешь под выстрел и умрешь с чувством выполненного долга? Или станешь уговаривать? Скажешь, что надо было послушаться. Стоило поработать во благо правительства и Королевы. Лет пять и мне присвоили бы рыцарские шпоры. А еще через десять даровали бы право на титул наследуемый…
— Долго? — я говорил и смотрел ему в глаза, больше всего опасаясь, что протянувшаяся между нами нить порвется, и тогда Дайтон вновь вспомнит о Минди.
Или об Эмили.
Сколько уже отмерил его хронометр?
— Скорее бессмысленно. Ее отец имел весьма определенные планы. Мне оставалось надеяться, что я успею раньше. Тогда я еще не думал про все это. — Френсис взмахнул рукой. — Я лишь хотел быть рядом со своей женой. Я отправился туда, где мог быстро и дорого продать единственное, что имел — свою голову. И у меня получалось. Я работал. Мне платили. Пожалуй, это было хорошее время.
Я не должен испытывать жалости к Дайтону. Он — убийца. И та несчастная, что лежит на препараторском столе, — одна из многих.
— Я писал ей письма. Она отвечала. Редко — ведь за ней следили. Прятали. Только вот прятали ненадежно, если она встретила тебя!
Тычок дула в грудь выбил зарождающуюся жалость. И дальнейшие объяснения потеряли смысл.
— Если вы говорите об Ольге…
— Да, чтоб тебя! Я говорю об Ольге. О моей Ольге. И о том, — он вдруг изменил голос, передразнивая распорядителя, — что князь Дориан Фредерик Курт фон Хоцвальд-Страшинский имеет честь объявить о своей помолвке… Ты ведь даже не спросил, нужен ли ей!
— И весьма сожалею об этом, поскольку…
…найдись во мне смелость задать вопрос и выслушать ответ, который я читал при каждой встрече в Ольгиных глазах, все сложилось бы иначе. Для нее. Для меня. Для Дайтона.
И для многих иных людей, случайно втянутых в воронку его ненависти.
— Ты ведь хуже, чем ничтожество. Ты — посредственность. Серое пятно на серой стене. Ни желаний, ни мечтаний, ни талантов. Ничего! Я превосхожу тебя во всем, кроме треклятого титула, который даже не твоя заслуга!
Он шагнул влево, и я вынужден был сделать шаг вправо. Этот танец рано или поздно закончится, но пока можно потянуть время.
И Минди определенно что-то задумала. Я ее не видел, но молчание ей было не свойственно.
— Я понимаю, насколько вам было больно. Но почему Эмили? Вы могли бы убить меня.
— Я хотел, — Дайтон остановился у стола с телом. — И хочу. И убью, но позже. Еще слишком рано. Полчаса.
Полчаса — это целых тридцать минут жизни. И хронометр в руке Дайтона выглядит более опасным, чем пистолет.
— Насколько я знаю, тебе доводилось посещать врачебные курсы. Потому прошу, инструмент все еще ждет. А час — не так и много.
— Зачем?
— Затем, что все должно быть достоверно. Вот последняя жертва твоих чудовищных экспериментов. Знаешь, сначала я ненавидел лишь тебя.
Если я откажусь вскрывать, что будет? Ничего хорошего. Этой женщине уже все равно, а Минди жива. И Эмили. И безымянная девочка, похожая на муху в янтаре.
Инструмент был великолепен.
— Так почему Эмили?
Лезвие рассекает кожные покровы, погружаясь в ослабшую массу мышц. Разрез, пожалуй, несколько небрежный, но с учетом ситуации, простительно.
— Ты так ничего и не понял? — Дайтон наблюдает за мной.
Хорошо. Что бы ни делала Минди, пусть она делает это быстро.
— Не в тебе дело. Сначала было в тебе. А потом я стал наблюдать за твоей семейкой. И не поверишь, оказалось, что ты — не самое большое в ней дерьмо.
Второй разрез выходит более аккуратным. И тело раскрывается, вываливая сизоватую требуху. В нос шибает вонью, и меня едва не выворачивает.
— Дело в вашем кукольном мире. Вы дергаете друг друга за веревочки и пляшете, пляшете до одури! И я решил, что почему бы мне тоже не подергать за эти веревочки? Может, тогда я придам этому танцу хоть какой-то смысл?