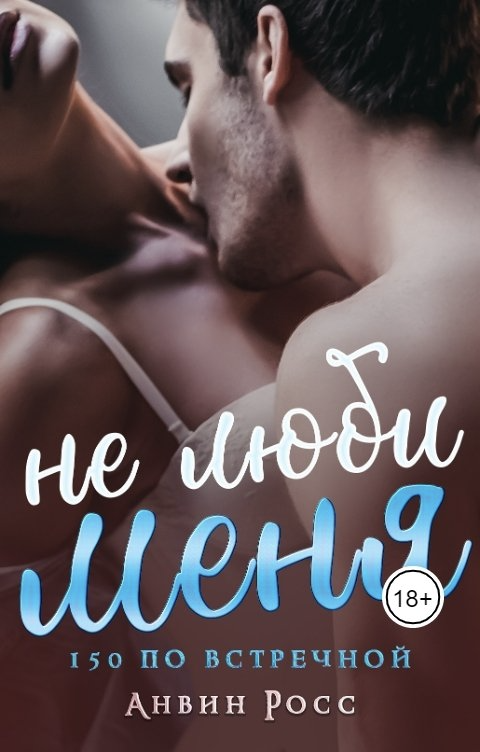5
Я видел сотни голых телок. Но эта другая.
© Александр Георгиев
Когда я возвращаюсь в чертов кабинет, застаю маму у окон, дающих обзор на бассейн и то самое шале, в котором я оставил Соню. У нее гордый, скорбный и одновременно решительный вид. Примерно так, вероятно, выглядит врач, которому предстоит отключить пациента от аппарата искусственной вентиляции легких. И похрен, что в нашей стране это запрещено законом. Для моей матери не существует законов, которые бы она не могла обойти. Прокурор в действии. И вся соль в том, что у этой гребаной работы действительно не существует границ.
– Как давно это длится? – голос матери сухой и ровный.
Никаких отличительных эмоций она не производит. Но, оборачиваясь, щедро накидывает их взглядом. Я типа должен захлебнуться стыдом и удавиться виной. Она ведь разочарована и огорчена! Что может быть хуже? Только меня, блядь, заебали все эти манипуляции. Я сыт по горло! На хрен.
– Хочешь понять, как ты это упустила? – едко ухмыляюсь.
Скопленная годами желчь сама собой лезет. Я не вижу берегов. В пизду!
– Красивая девочка, – в этом заключении нихуя положительного. Настолько цинично звучит, что меня вдруг подрывает резко заткнуть собственную мать. А этого, должен признать, не случалось никогда прежде, какой бы треш она, вмешиваясь в мою жизнь, ни творила. – Спишь только с ней?
Не то чтобы я хоть когда-то был скромником. Уверен, что мать с отцом с их долбоебучей слежкой в курсе большинства моих похождений. Всегда похрен было. Но конкретно в этот момент меня тошнит.
– Что за вопросы, мам? Тебе не кажется, что это не твое дело? – выталкиваю, не пытаясь приглушить пылающий все ярче гнев. – Ты не в суде. Остынь.
Мать на этот грубый посыл и бровью не ведет.
– Все, что касается моего сына, безусловно, мое дело. Важнее любого суда.
Заботится ли она обо мне? Несомненно. Только от этой удушающей заботы охота разнести, на хрен, весь тот порочный город, что они с отцом держат на контроле.
– Хватит пытаться прогнуть меня, мам, – говорю спокойно, чтобы до нее дошла вся суть. – Ты не будешь управлять моей жизнью, только потому что тебе кажется, будто ты что-то там лучше меня знаешь, – высекаю и замолкаю, углубляя паузу, пока в глазах матери не отражается горькое понимание. Мне, блядь, не хочется причинять ей боль, но другого пути сквозь эту больную материнскую любовь я не вижу. – Ты в моей жизни не главная.
С этой фразой она вздрагивает. Впервые вижу подобное. Удовольствия не испытываю. Уверен, что мне чисто морально ломать ее гораздо тяжелее, чем ей меня. Но терпения не осталось. Не после той хероты, что вчера выдал отец. С ее подачи ведь. Я знаю, кто рулит. Со мной так не будет!
– И кто же в твоей жизни главный, сынок? Она? – короткий и едкий смешок. – Эта, Господи Боже мой, рыбачка Соня?
– Неважно, – отсекаю глухо. – Все решения я буду принимать сам.
Мама задирает подбородок и, смерив меня снисходительным взглядом, поджимает губы. С тем же выдержанным превосходством кивает.
– Говорят, если у ребенка не было кризиса трех лет, не стоит радоваться. Он в любом случае вылезет. Двойной дозой ударит в подростковом возрасте. А если и в подростковом никаких проблем не возникло? – рассуждает, пока я закипаю. – Сын, ты решил в двадцать один меня сразу в гроб загнать?
Улыбается с явным расчетом на то, что отражу подобную эмоцию.
Реально не догоняет, что меня, сука, на куски рвет?
– Нет, если ты с этой девчонкой просто спишь, то я могу потерпеть… «Конфета вкусная. Хочу ее!» – с якобы понимающей ухмылочкой, очевидно, мои желания озвучивает. – Что ж, развлекайся, – все свое материнское добро за раз выдает.
Просто пулемет добра, блядь. Дьявольским залпом.
Пока она идет к столу, чтобы налить из графина в стакан воду, я готов ринуться в мир и выкинуть какую-то поистине зашкварную хуету только потому, что меня, мать вашу, бесит, когда меня не воспринимают всерьез.
– Пусть Мирослава вечером на четыре персоны накроет, – продавливаю я решительно. – Соня останется на ночь.
Мама первым же глотком давится.
– В каком смысле – на ночь? В нашем доме? Спать с ней в обнимку собираешься?
Вижу, как трудно ей сдерживать эмоции. Прорываются стальными нотками. Но именно они вызывают глубоко внутри меня удовлетворение. Наконец, до нее начало доходить.
– Саша, сынок… – тон заметно на спад идет. – Я тебя прошу, только не надо к ней привязываться. Не стоит. Поверь, я знаю, что говорю. Я думаю о тебе. Слышишь меня? Александр? Я запрещаю…
– Я не спрашиваю твоего разрешения, – жестко обрываю мать я.
Да, возможно, это тот самый раз, когда она готова повысить голос, чтобы разойтись бессильным и бессмысленным ором, как периодически случается с нормальными родителями. Но ей все-таки удается сдержаться.
– Не стоит быть таким беспечным, сынок, – выводит назидательно, будто бы равнодушно. Ну да, вдруг я еще не почувствовал себя тупейшим дерьмом! Надо дожимать! Знакомая тактика. – Этот мир не прощает ошибок.
В груди так грохочет, что с трудом слышу это «доброжелательное» предсказание, сделанное с расчетливым намерением окончательно выбить у меня почву из-под ног.