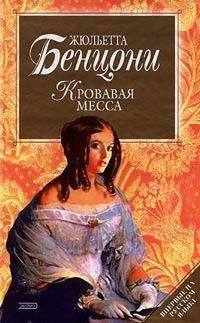Я вытащу теперь за уши эту гнусную бестию — пол из его логовища, прижгу ему спину добела раскаленным железом моего наслаждения, воткну ему в подошвы острое жало моего страдания, так что он закричит и запляшет — о, Боже! — запляшет!
Я буду колоть его образами, какие породил мой холодный, утонченный разврат, до тех пор, пока я снова не почувствую себя мужчиной, я бедный мученик твоей роскоши, юный мозг.
Я отправил свой мозг на зеленый луг, на бесплодную топь моей родины; теперь я весь — синтез, весь — сосредоточенность, весь — пол.
В моих объятиях покоишься ты, и теперь ночь.
Мы целуем друг друга так, что у нас захватывает дыхание; так, что мы растворяемся друг в друге, делаемся одним существом.
Я прижимаю свои губы к твоим лихорадочно горящим грудям, и моя грудь расширяется от долгожданного, горячо желанного счастья; я так близко прижимаю твое тело, тело пантеры, к себе, что слышу, как твое сердце бьется о мою мужскую грудь, и я могу сосчитать его удары; чувствую, как кровь, клокочущая в твоем теле, льется по моему, и дрожь сладострастия, пронизывающая твое тело, делается моей собственной дрожью.
Я впиваюсь в тебя; я чувствую, как члены твои вздымаются в дионисийском экстазе сладострастной судороги, как они вздрагивают в диком напряжении болезненного наслаждения.
Крепче — глубже — еще глубже, так что я поглощаю твой бессмертный дух в этом невыносимом пылу моей страсти, в этом бешеном фарсе моего чувственного наслаждения, в задыхающемся «аллилуйя» моего сладострастия.
И теперь я воплощение Логоса, когда он стал заветом плоти; теперь я могучий всепол, пункт соприкосновения между прошедшим и будущим, мост к тому берегу грядущего, залог новой эволюции.
Теперь я не знаю больше моей муки; я всасываю твой дух; все глубже впитываю я его в себя, и в этом единстве и взаимообмене наших существ, в этом растворении моего бытия в твоем, в этом сцеплении зубцов наших самых глубоких и интимных чувств, в этом сверхчеловеческом, безрассудном, небесном восторге свободы пола, ликующем стремлении к будущему и бессмертию, я схватил твой дух дрожащими, трепещущими пальцами.
Да, да, да, да:
Он исчез!
Как ртуть разбегается он под моими пальцами; и вот ты здесь, — вот лежишь ты в твоей божественной наготе, в бесстыдстве твоего пола, и я смотрю на тебя, как на что-то чуждое, далекое, отодвинутое на миллионы миль, и я гляжу в твои бездонные глаза, у которых, быть может, даже нет и поверхности.
Но нет, — нет, — ради Бога, нет.
С трепещущей, судорожной, разрывающей мозг страстью, с лихорадочным зноем, бушующим в моем мозгу, с бешеной силой моих окрепших от желания членов, я хочу трепетать от землетрясения твоего тела, ничего не чувствовать, кроме раскаленного зноя твоих членов, ничего не слышать, кроме ревущего урагана моей крови, ничего не ощущать, кроме колющей, грубой боли любовного бреда, — я хочу перестать страдать в победном дифирамбе пола, в шумящем прибое страшной симфонии тела.
И скажи мне, что ты меня любишь! Скажи это страстным трепетом твоего тела, выжги это на моих членах, запечатлей это на моих губах, вдохни его в меня, это жгучее, похотливое, исступленное:
Я люблю тебя!
Скажи, скажи, скажи мне это — как — как любишь ты меня?
Как — как любишь ты меня? —
Ха, ха, ха, ха-а!
Мне не нужна твоя любовь, — чего ты хочешь от меня — ведь я ничего не могу дать тебе, — что мне делать с тобой — я не знаю, что я стану делать с тобой!
Встань; одевайся; и изумляйся моему великому мозгу, который способен разыграть такой веселый фарс едва созревшей школьнической любви.
Офелия, иди в монастырь.
На дне моей души лежит мрачная, ужасная тайна безумной, сатанинской, черной мессы, когда умирающий пол в своей разрушающей агонии и смертельных судорогах исчерпал все неистовства, когда он в последний раз был моим и вытащил меня из твоих тисков.
И я хочу раскрыть эту тайну; выставить на показ триумф эпилептической страсти, еще раз пережить все с такой интенсивностью, как будто это случилось только сегодня, еще раз погрузиться в наслаждение моим половым вампирством, и еще раз чувствовать себя всесильным полом, который играет моим мозгом как глупой, смешной игрушкой.
Я не знаю, был ли это сон или действительность; я не знаю, был ли это галлюцинаторный образ идеи или, наоборот, рождение идеи из унаследованных, а priori лежащих во мне образов.
Линии дня незаметно переходят в линии ночи; над ясным полднем покоится большой, кроваво-красный диск луны, а в воде глубокого колодца среди белого дня отражаются миллионы звезд в полуночной тьме.
Боже мой! Быть может, это было лишь психическое проявление физических процессов разрушения, алкоголического бреда, лихорадочного жара или — но, ведь, это же все равно.
Во всяком случае, я ее пережил, эту смертельную борьбу моего пола.
Я сидел неподвижно, глубоко засунув в рот кулак с выпученными глазами, с болезненно искаженным лицом, — грубое, хищное животное.
Я должен был что-то разрушить в себе, собственными зубами впиться во внутренности, глубоко, медленно, все глубже; осторожно отрывать их, чтобы боль была сильнее, медленнее, ужаснее; я должен был это сделать длинными, тонкими, острыми зубами.
В течение двух дней я не спал; ничего не ел. Я пил лишь чистый спирт, потому что мои вкусовые нервы притупились, и их действие на полость рта было уничтожено.
Я был почти весел.
Чувства мои двигались в такт, удивительный такт, какой-то страшно-призрачно-глубокой, несвязной, докучливой музыке, с лицом старомексиканского идола.
Каждый звук был как бы куском расплавленного металла, который, достигнув страшной температуры, капал в спектр моей души, и проводил там линию.
Я не слышал музыки, я явственно ощущал ее, как огромный, бесконечный спектр с яркими, наивно яркими красками.
Это напомнило мне те краски, какими был размалеван ассирийский лев, которого я однажды видел.
Мне было странно лишь то, что я совершенно отчетливо ощущал ультрафиолетовую краску, но не как цвет, а как какую-то обратную волну, как нечто, что постоянно находилось в равномерном, ритмическом, совершенно явственном обратном движении и не хотело исчезнуть.
У меня было почти ощущение, что я пьян и координация моих двигательных мускулов нарушена.
Я видел музыку в горящих, пылающих, резких, громадных огненных красках; сначала я подумал, что это гангрена, так болезненно действовал на меня по временам этот жар. Иногда я ничего не чувствовал, тогда у меня являлось ощущение, что я тону, тону, и я в отчаянии хватался за все вокруг себя, чтобы снова всплыть, снова выбраться.