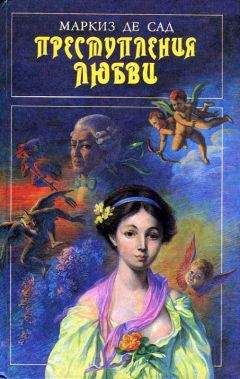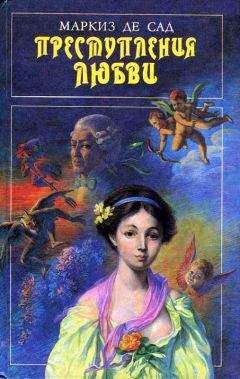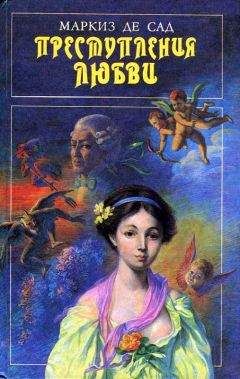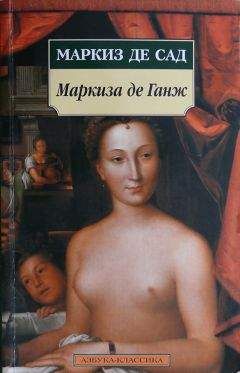— Что мне за дело, ревнивец? — отвечала юная Сандерс, стараясь успокоить предмет единственной любви своей. — Что мне за дело до фимиама, что угодно было ему воскурять, если сердце мое принадлежит только вам? Неужели вы считаете, что я поверила его лести?
— Да, Эрнестина, именно это я и подумал и не ошибся: ваши глаза сияли от гордости, что вы сумели понравиться ему, вы были заняты исключительно им.
— Ваши упреки огорчают меня, Герман, оскорбляют меня. Я была уверена, что утонченность чувств ваших поможет вам избавиться от пустых страхов. Что ж! Поверьте эти страхи отцу моему, и, дабы успокоить подозрения ваши, я согласна, чтобы брак наш был заключен уже завтра.
Герман быстро ухватился за это предложение. Он вошел к Сандерсу вместе с Эрнестиной и, бросаясь в объятия полковника, заклинал его всем самым для него дорогим не препятствовать долее его счастью.
Не встречая сопротивления иных чувств, гордыня преуспела в сердце полковника значительно больше, нежели в сердце Эрнестины. Будучи человеком честным и искренним, он был далек от пренебрежения обязательствами, взятыми им на себя перед Германом, но покровительство Окстьерна ослепило его. Он прекрасно понял, какое сильное впечатление произвела дочь его на сенатора. Друзья его сообщили, что если страсть эта будет иметь вполне законные последствия, на что он вправе был надеяться, то будущность дочери от этого только выиграет. Мысли эти не покидали его всю ночь, он уже строил планы, суетные и тщеславные. Словом, момент был выбран плохо, более неподходящего случая Герман найти не мог.
Однако Сандерс остерегся напрямую отказать молодому человеку: подобные действия были противны его сердцу. Кто мог подтвердить, что планы его выстроены не на песке? Кто мог утвердить его в реальности мечтаний, коими начал он питаться? И посему он прибег к привычным своим доводам: юный возраст дочери, надежды на наследство госпожи Плорман, страх навлечь на Эрнестину и Германа месть коварной Шольтц, которая, найдя поддержку у сенатора Окстьерна, не замедлит пустить в ход свои козни. И разве время, пока граф находится в городе, может быть названо удачным? Совершенно необязательно затевать этот брак немедленно, ведь если Шольтц непременно решит противодействовать ему, то именно тогда, когда граф осыпает ее своими милостями, она будет наиболее опасной.
Эрнестина же торопилась более, чем когда-либо. Сердце упрекало ее за вчерашнее поведение, и она спешила доказать возлюбленному своему, что ветреность отнюдь не принадлежит к недостаткам ее. Полковник, в растерянности, ибо он не привык сопротивляться уговорам дочери, попросил ту дождаться лишь отъезда сенатора и пообещал, что сразу же после этого он первый устранит все препятствия к их браку. Если будет необходимо, он сам поговорит с вдовой Шольтц, успокоит ее и побудит к разделу имущества, без которого юный Герман не может окончательно расстаться со своей хозяйкой.
Герман удалился весьма недовольный. Хотя он снова уверился в чувствах возлюбленной своей, мрачные предчувствия снедали его, и ничто не могло их заглушить.
Едва он вышел из дома Сандерса, как туда прибыл сенатор в сопровождении вдовы Шольтц. По собственным словам сенатора, тот пришел отдать долг уважения почтенному воину, ибо он счастлив, что познакомился с полковником во время путешествия своего. Граф также попросил разрешения засвидетельствовать почтение свое любезной Эрнестине. Полковник и дочь его приняли эти заявления вежливости как подобает. Вдова Шольтц, спрятав на время злобу и ревность, ибо понимала, что еще не раз успеет выпустить наружу эти жестокие чувства, осыпала полковника комплиментами. Еще больше ласковых слов сказано было Эрнестине, и беседа прошла столь приятно, сколь вообще это могло быть в подобных обстоятельствах.
В течение многих дней Сандерс и дочь его, вдова Шольтц и граф обменивались визитами, давали обеды то в одном доме, то в другом, но ни разу несчастный Герман не был приглашен на приятные эти собрания.
Во время встреч сих Окстьерн не упускал ни единой возможности высказать любовь свою, и мадемуазель Сандерс более не сомневалась, что граф воспылал к ней самой жгучей страстью. Но сердце Эрнестины служило ей надежным сторожем, а необычайная любовь ее к Герману помогла ей ни разу не попасть в ловушку, расставленную гордыней. Она отклоняла любые предложения. На празднествах, куда приводили ее, она чувствовала себя стесненно и предавалась мечтаниям, каждый раз по возвращении домой она просила отца не брать ее более с собой. Однако время было упущено: Сандерс, у которого, как я вам уже сказал, не было, как у дочери его, веских причин сопротивляться соблазнам Окстьерна, с легкостью поддался им.
Между полковником, вдовой Шольтц и сенатором состоялась тайная беседа, где несчастный Сандерс был окончательно введен в заблуждение. Хитрый Окстьерн, ничем себя не компрометируя и ничего письменно не обещая, заметил, что необходимо наконец сдвинуть дело с мертвой точки. Соблазн был для Сандерса слишком велик, и он не только пообещал графу отказать Герману, но и дал слово покинуть свое жилище в Нордкопинге и приехать в Стокгольм, где, воспользовавшись оказанной ему протекцией, он станет наслаждаться королевскими милостями, коими, по словам графа, он будет осыпан.
Эрнестина, давно уже не видевшая своего возлюбленного, тем не менее не переставала писать ему. Но зная, что тот способен учинить скандал, — а она не любила бурных сцен, — она по-своему рассказывала ему о происходящих событиях. Впрочем, она еще не окончательно уверилась в слабости отца своего; прежде чем в чем-либо убеждать Германа, она решила сама разобраться в происходящем. Однажды утром она пришла к полковнику и почтительно к нему обратилась:
— Отец, кажется, сенатор намеревается долго пробыть в Нордкопинге. Однако вы пообещали вскоре устроить брак мой с Германом. Разрешите спросить, осталось ли ваше решение прежним и в чем необходимость дожидаться отъезда графа, дабы заключить брак, коего мы все столь страстно желаем?
— Эрнестина, — ответил полковник, — садитесь и выслушайте меня. Дочь моя, пока я считал, что счастье и состояние вы можете обрести, соединившись с молодым Германом, я не сопротивлялся тому. Напротив, вы сами видели, сколь охотно шел я навстречу желаниям вашим. Но с тех пор, как я понял, что вас ждет блестящее будущее, то почему же, Эрнестина, я должен им пожертвовать?
— Блестящее будущее, говорите вы? Если вы, отец мой, радеете о счастье моем, то его для меня не будет нигде, кроме как подле Германа, только с ним буду я счастлива. Однако оставим это, я, кажется, мешаю планам вашим… С содроганием думаю я об этом… Ах! Молю вас, не приносите меня в жертву.