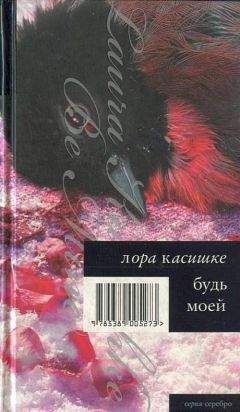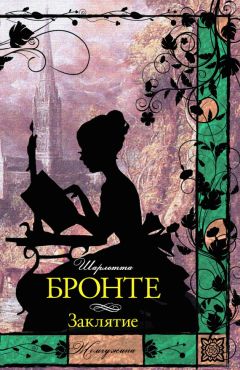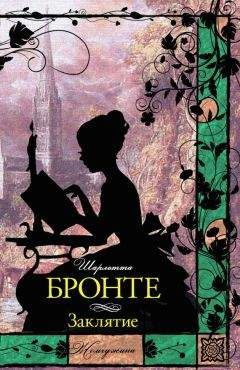В те дни все вокруг наполняло меня желанием. Вид мужчины, ослабляющего узел галстука. Пара, в обнимку гуляющая по улице. Кончик моего собственного мизинца, просунутый между моих же зубов.
В основном, думаю, в ту пору предметом вожделения было мое собственное тело. Даже уродливые мужчины — те, что скорее могли вселить в меня страх или вызвать неприязнь, когда они смотрели на меня, проходя мимо по улице или останавливаясь у кассы, пока я пробивала им чеки на книги и журналы, — даже они заставляли мое сердце ускоренно биться.
Случалось, даже обычные посторонние взгляды заставляли мои соски твердеть. И я чувствовала, как мои трусики увлажняются.
Думаю, я была без ума именно от своего тела. Иногда я брала карманное зеркальце, укладывала его между ног и возбуждала себя, наблюдая за отражением. Я могла кончить через секунды, а могла растянуть удовольствие на час, специально убирая пальцы от клитора и оставаясь лежать в постели с разведенными ногами — голая, задыхающаяся, настолько близкая к оргазму, что балансировала на грани бездны наслаждения, просто трогая свою собственную грудь, облизывая свои пальцы. А затем, сплошь покрытая потом, я наконец позволяла себе погрузиться в удовольствие, доведя себя до неистовых судорог.
Сегодня я ласкала себя неторопливо, и мои руки, блуждающие между ног, при некотором участии воображения превратились в руки незнакомца. В конце концов я довела себя до такого мощного оргазма, что сама крайне удивилась. От яростных конвульсий на моих глазах выступили слезы, словно, лаская себя, я снова оказалась во власти любовника, по которому долгое время глубоко тосковала.
Когда я очнулась от сна, из глубин моего существа поднималось медленное, вялое наслаждение. Я пошла в ванную и снова взглянула на себя в зеркало.
Былой ночной ужас улетучился без следа. В дневном свете я выглядела моложе, мягче. Длинные темные волосы сильно спутались, но все же блестели. Я снова превратилась в женщину, которую не забудешь, мельком увидев в коридоре.
Завтра Чад возвращается в колледж. По его словам, он не может остаться на всю неделю, так как должен готовиться к экзамену по вычислительной математике, который ему сдавать в следующий понедельник.
— А ты не можешь готовиться здесь? — спросила я.
— Нет, — ответил он. — Здесь я готовиться не могу.
Сегодня вечером к нам на ужин придет Гарретт. Когда я рассказала Чаду, что встретила Гарретта в колледже, он лишь пожал плечами. Я пригласила Гарретта на ужин, добавила я, он сказал «отлично», но, похоже, не слишком заинтересовался.
— Вы больше не дружите с Гарреттом? — спросила я.
— Мама, я не дружу с ним с седьмого класса.
Я предложила ему позвонить Гарретту и уточнить время ужина, но Чад отказался:
— Почему бы тебе самой ему не позвонить?
Гарретт ответил на мой звонок, прежде чем отзвучал первый гудок, как будто ждал у телефона. Это был местный номер телефона. Неужели он все еще живет в доме своего детства, когда его родители умерли? Неужели он живет там в полном одиночестве?
— Гарретт, — проговорила я, — это Шерри Сеймор. Мама Чада.
— Да! — воскликнул он. — Как там Чад?
— Отлично. Просто прекрасно. Он сейчас здесь. И ждет не дождется, когда увидит тебя. Ты не передумал к нам зайти?
— Нет, конечно же нет. С удовольствием приду. В котором часу, миссис Сеймор?
— В семь подойдет?
— Да. Классно!
После того как нас разъединили, я пару мгновений слушала тишину на телефонной линии. Потом зазвучал мужской голос. Я различила слово «уже», но оставшееся сливалось в неразборчивое бормотание, в котором смутно угадывалась некая структура, некое значение. В пятом или шестом классе школы мы верили, что голоса, которые иногда слышатся между или во время телефонных разговоров, это голоса умерших людей. На ночных девичниках мы иногда пытались разобрать их на фоне мертвой тишины телефонной трубки.
А почему бы и нет? Разве умершие не могут оставить в воздушном пространстве какой-нибудь дух, способный говорить? Разве не может быть так, что инструмент, способный переносить голоса через океаны и временные зоны, будет улавливать голоса мертвых?
Нет.
Конечно же нет.
Я повесила трубку.
Мексиканские тако.
Я приготовлю сегодня тако. Ребятам на ужин. Джону тоже понравится. Кукурузные чипсы с соусом гуакомоле. И побольше тертого сыра, рубленого лука и помидоров.
Гарретт пришел в белой накрахмаленной рубашке, с огромной красной розой, завернутой в целлофан. На упаковке зеленела бирка с ценой — 1,99 доллара.
На крыльце он предусмотрительно снял ботинки и провел весь вечер в носках, зиявших дырой на месте большого пальца. Под волосами, коротко — еще короче, чем на прошлой неделе, когда мы столкнулись с ним в коридоре, — постриженными машинкой, проглядывала бледная кожа. И пахло от него мылом «Диал». Рядом с Чадом, который даже не удосужился причесать свои лохмы, спадающие на воротник и закрывающие глаза, и вырядился в толстовку с обтрепанными обшлагами и надписью «Беркли», Гарретт выглядел выходцем из другого мира.
Я поставила розу в вазу, а вазу — в центр стола. Предложила обоим мальчикам пива. Идея принадлежала Джону, но я с готовностью ее приняла. К чему притворяться, что закон о запрете на алкоголь для несовершеннолетних распространяется на две несчастные бутылки пива, тем более что они наверняка пьют его уже не первый год. Впрочем, после того как ребята осушили по второй бутылке, больше я им не давала.
Сама я выпила три больших бокала охлажденного белого вина. Это был любимый Сью сотерн, бутылку которого она подарила мне на прошлый день рождения, надеясь отвратить меня от мерло. Я расслабилась.
Рядом с вазой я поставила свечу, и в свете ее дрожащего пламени роза походила на сердце, пульсирующее в центре стола.
После второго бокала вина окружавшие меня мужчины превратились в красивых незнакомцев с отменным аппетитом. Они подкладывали себе по второму и по третьему разу, а я потягивала вино, отщипывая по кусочку то от одного, то от другого, и передавала им новые блюда.
Красивые незнакомцы с отменным аппетитом.
Джон в своей фланелевой рубашке, так и сыплющий анекдотами: «Женщина садится в самолете рядом с мужчиной…»
Чад — с нечесаными космами и колючей щетиной, которую он не брил с приезда, хоть и положил на раковину в ванной комнате, рядом с папиным станком, свою бритву.
Гарретт, в лице которого не осталось ничего от десятилетнего мальчика, которого я помнила. Куда он подевался, гадала я, этот мальчик, колотивший игрушечными машинками размером со спичечный коробок по ножкам моего кофейного столика? Гарретт, дорогой, может, лучше унести эти машинки в комнату Чада? Мне бы не хотелось, чтобы они поцарапали мебель. Я как сейчас вижу выражение виноватого отчаяния, появившееся в его глазах, когда он поднял ко мне голову. Едва заметив всю глубину этого отчаяния, я тут же дала обратный ход.