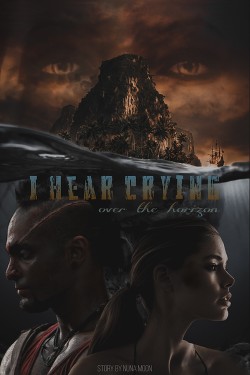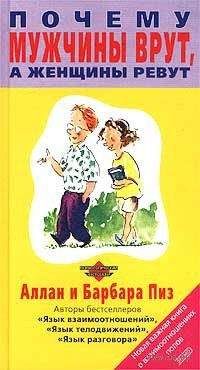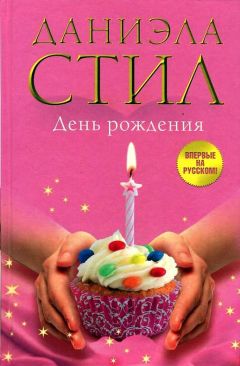Однажды я решилась претворить мечту в жизнь. Но все пошло крахом. Сбежав от семьи, я вскоре поняла, что без нее я — просто никто. Не потому, что не была способна заработать себе на жизнь или оплатить съемную однушку — причина зарождалась внутри меня, а не из вне. И причина заключалась в том, что я так и не смогла отпустить свое прошлое. Не смогла простить все обиды приемным родителям, забыть о страхах, оставшихся со мной на всю жизнь, подавить невыплесканную агрессию внутреннего зверя и открыться этому миру.
Я думала, что если вырву себя из той поганой жизни, заново посмотрю на мир, заново вдохну полной грудью, то… наконец почувствую, почувствую что-то в сердце. Как жаль, что этого не произошло — может быть, сейчас бы все было совсем иначе…
Безумие.
Повторение одного и того же действия, раз за разом…
Я металась внутри себя, искала смысл бороться дальше, не могла найти ответ на вопрос «кто я?». Я причиняла себе физические страдания, увечья — делала все, лишь бы снова почувствовать укол в сердце, лишь бы снова испытать боль или же растянуть губы в нездоровой улыбке, наконец почувствовав, что я все еще жива. Но этого упорно не происходило…
Теперь же я прекрасно осознавала то, что была безумна. Я слепо верила в то, что вскоре все изменится. Какой же наивной дурой я была. У меня же нихера бы не получилось…
Разве можно построить счастливую жизнь, когда мнимое чувство счастья — всего лишь побочный эффект от таблеток, прописанных тебе психотерапевтом? Моя новая жизнь стала всего лишь иллюзией, вся она шаталась, как карточный домик, держась на одних лишь таблетках. Новые город, учеба, работа, друзья — это была не жизнь, это была фальшивка — идеальная картинка. Пелена, застиляющая мне глаза. Картина жизни, которую я хотела видеть, но которая так и не просуществовала в действительности. Вся моя жизнь была обманом, самовнушением. Вся моя жизнь была безумием…
Реальная жизнь — вот она — на этом кровавом острове.
— И мы тоже безумны, Mary. Мы с тобой, amiga. Мы пытались избавиться от гребаного прошлого, желали разорвать все связи и забыться, найти путь к спасению… Но знаешь, в чем смысл, принцесса? — спросил Ваас.
Его голос стал еще тише, словно пират говорил о чем-то, что не должен был слышать больше никто.
— В том, что никакого спасения нет, hermana. Чтобы спастись, не дать безумию завладеть твоим разумом, суметь выбраться за его рамки, нужно принять и смириться с тем, что гребаного спасения нет. Я уже сумел подчинить себе свое же безумие… А теперь ответь мне, querida, — шепотом обратился ко мне Вааса, беря мое лицо в свои теплые ладони. — Ты примешь меня в свое сердце? Прими меня, как спасителя. Прибей к сраному кресту и позволь мне наконец возродиться, Мария…
Его слова были подобны кинжалу, вонзающемуся в сердце, и больше я не могла противиться этому чувству. Чувству, которое без преувеличения убивало меня изнутри. И это чувство — любовь. Любовь к главарю пиратов. Да, все же это оказалась чертова, будь она проклята, любовь. Теперь я была готова признать это…
Признать, что полюбила не человека, а настоящее чудовище — жестокого пирата, психопата и наркомана, удерживающего меня и моих друзей в плену.
Признать, что эта любовь зародилась еще в те далекие дни, когда я считала, что всем сердцем ненавидела этого морального урода — зародилась в тот день, когда я поняла его, когда нашла себя в его шкуре, а он нашел меня в своей.
Признать, что испытывать стокгольмский синдром — это ебучие цветочки в сравнении с тем, как испытывать любовь по отношению к своему садисту.
И признать, что эта любовь заведомо и никогда не будет взаимна.
Я наконец-то призналась себе в этом. Это было сложно, но необходимо. Ваасу же мое признание и нахер бы не сдалось — он и так мог спокойно читать меня, как открытую книгу. Одного тоскливого взгляда на него и одного рваного вздоха от его прикосновения хватало, чтобы выдать меня с потрохами. И Ваас был прав, чертовски прав. Я действительно оказалась глупой, наивной и слабой девочкой.
Его девочкой…
Наплевав на гордость и обиду, я уткнулась носом в шею мужчины, вдыхая запах его одеколона. Мои руки обвили его торс, а оставшиеся на щеках слезы коснулись красной ткани его майки. Я желала только одного — чтобы этот момент длился вечно. Чтобы мужчина всегда был рядом, а его ровное дыхание раздавалось над моим ухом. Чтобы он так же поглаживал меня по волосам, а я ощущала тепло его тела. Чтобы мои прикосновения не отвергались им, и я больше не чувствовала себя одинокой и потерянной…
Ладонь Вааса переместилась с моих лопаток на затылок. Несмотря на его еле ощутимые поглаживания по моим мягким волосам, голос пирата приобрел пугающую серьезность — я почувствовала, как напряглись мышцы главаря пиратов, а его сердцебиение вновь участилось.
— Путь блядского воина для тебя закончен, Mary, — отрезал пират, выделяя буквально каждое слово. — Хватит марать свои руки в крови, когда эта кровь не стоит даже пули. Это гребаное татау ни черта не значило, не значит и не будет значить, amiga — я сожгу его. Сотру с твоей руки, чего бы мне это ни стоило. Никаких больше игр в «кошки-мышки» блять: твоих проблемных дружков больше нет, тебе не придется спасать их задницы и вновь убегать от меня. И самое, сука, главное — уясни это себе, моя девочка, то, что я сейчас тебе скажу… — процедил Ваас и склонился к моему уху.
Теперь его голос действительно заставлял холодок пробегать по телу. И тем не менее я не отстранилась от Монтенегро ни на сантиметр, продолжая вслушиваться в этот испанский акцент.
— Никакой ебучей мести, nena. Забудь о ней блять. Мою горячо любимую сестричку я лично отправил к праотцам, а потому больше тебя в той жизни ни черта не держит. Ни черта, ты поняла меня, Мария?
Получив мой судорожный кивок, Ваас остался более, чем доволен — его дыхание вновь стало размеренным, а забинтованные пальцы перестали так сильно сжимать мои волосы на затылке. На миг коснувшись губами моего виска, мужчина вновь устроил подбородок на моей макушке, задумываясь о чем-то своем. Мои слезы давно высохли, я успокоилась и теперь обдумывала все сказанное пиратом, продолжая прижиматься к нему всем телом.
Думала о Цитре и о том, что мог чувствовать Ваас, когда лишал жизни собственную сестру. Да, циничную, да, жадную до власти, да, нелюбящую, но все же сестру. Ведь не зря же все эти годы главарь пиратов ни на шаг не подпускал своих людей к храму — что мешало Ваасу столько лет решиться на то, что он совершил за одну чертову ночь? Это наталкивало на мысль, что Ваас так и не смог по-настоящему отпустить прошлое… До сегодняшнего дня.
Хотя голос пирата и был таким равнодушным и холодным, когда он рассказал мне об убийстве Цитры, но его взгляд, тот потерянный и пустой взгляд, с каким он вошел в эту комнату, говорил об обратном. И что я точно знала, так это то, что Ваас никогда не расскажет мне, что случилось между ними с сестрой там, в храме. Никогда не расскажет, о чем они говорили и как долго. Никогда не расскажет, как лишал ее жизни, не расскажет, что чувствовала она и что чувствовал он сам в тот момент. Эта тайна навсегда уйдет вместе с ними.
Так будет правильно…
— Я не хочу потерять тебя… — прошептала я и услышала в ответ лишь тихий смешок Монтенегро.
***
Сведение татау оказалось, пожалуй, самым что ни на есть адовым моментом за всю мою жизнь. Никогда я не испытывала такой сильной боли, и никогда эта боль не длилась настолько долго, буквально выворачивая меня наизнанку и заставляя стонать от отчаянья сквозь стиснутые зубы…
Монтенегро не собирался церемониться со мной. Его не волновал плохо скрытый животный страх в моих глазах, не ебали мои просьбы не сжимать так сильно мое предплечье, когда через пару дней главарь пиратов молча выудил меня из своей комнаты и грубо потащил за собой в неизвестном направлении. И хотя я сама дала свое (нахер не сдавшееся пирату) согласие на сведение татуировки, меня все равно трясло при мысли о том, каким образом все это дело должно проходить. В голове эхом припоминались слова Вааса, который рассказывал мне об отсутствии здесь какой-никакой анестезии, помимо наркотиков, и о том, что сводить все это дело придется проверенным «дедовским» методом — гребаной щелочью.